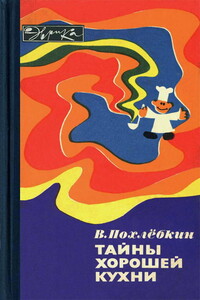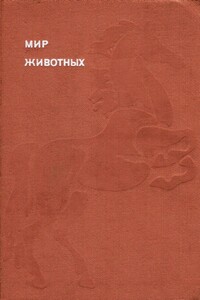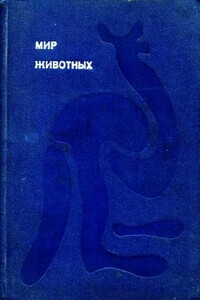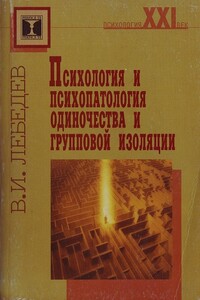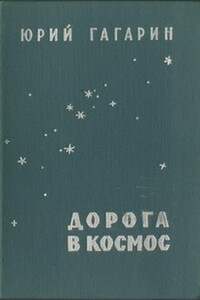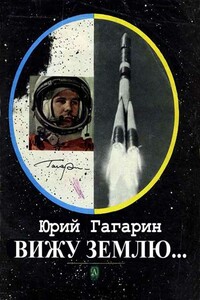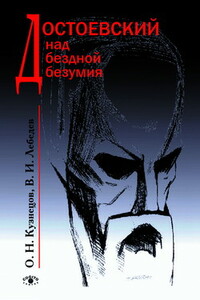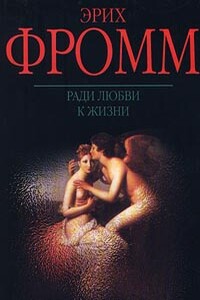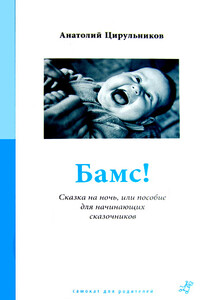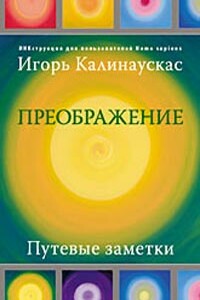Этим же удивлял современников французский психолог Полан, который в 1887 году демонстрировал, как ему удается читать какое-нибудь стихотворение и в то же время писать другое, или, декламируя стихи, письменно выполнять сложные арифметические действия. Что же помогало ему добиваться столь эффективной «производительности труда»? Прежде всего умение мгновенно переключать внимание с одного объекта деятельности на другой. Но в системе «человек — машина» именно это и приходится постоянно делать оператору. Потому-то столь важен эксперимент с черно-красной таблицей.
Как известно, память — это сложный процесс отражения действительности, сохранения запечатленного и воспроизведения или узнавания того, что было ранее воспринято, пережито или совершено. Память бывает оперативной, или кратковременной, и долговременной. О ценности последней говорить не приходится: она составляет фундамент человеческой эрудиции. Развитию этой памяти помогает систематичное накопление знаний. По словам Суворова, «память есть кладовая ума, но в этой кладовой много перегородок и поэтому надобно скорее все укладывать, куда следует». Наполеон же говорил, что все знания содержатся в его голове, как в комоде, и ему достаточно открыть определенный ящик, чтобы извлечь нужные сведения.
Но не менее важна оператору и кратковременная память: она регистрирует происходящие события, связывая их в одну «цепочку» с событиями, только что прошедшими, и подготавливая их связь с непосредственно надвигающимися.
Оператор обязан постоянно помнить, в каком состоянии находился управляемый объект некоторое время назад, что происходит с ним сейчас и что может произойти через определенный промежуток времени.
Когда человек отыскал, например, на таблице черную цифру 18, он должен не забыть, что перед этим назвал красную семерку, а теперь ему предстоит найти красную шестерку. Любопытно, что наибольший процент ошибок приходится на средний этап работы, когда после черной цифры 12 и красной 13 следует назвать 13 черную и 12 красную.
Фактор непрерывности действует во многих операциях, связанных с определенной программой: на производстве, на транспорте, в спорте. В условиях жесткого лимита времени значение оперативной памяти еще более возрастает.
Взять хотя бы создание так называемых «схем предвидения». Прежде чем совершить какое-нибудь действие, человек мысленно представляет, что именно он сделает и каков будет результат. Выполнив задачу, он затем «сличает» этот реальный, конкретный результат с «запроектированным». Дальнейшая деятельность зависит от итогов этого сличения; и если обнаружится «рассогласование», можно будет внести определенные поправки, уточнения.
«Схемы предвидения», механизм возникновения которых полностью еще не изучен, — обязательное «внутреннее» условие всякой операторской, даже не только операторской, деятельности. Однако «схемы» эти оказываются очень чувствительными к помехам — например, к подсказкам.
Вот ученик, хорошо выучивший стихотворение, без запинки декламирует его перед классом. Но попробуйте одновременно с ним произносить те же стихи, но в другом ритме — и он быстро собьется, начнет ошибаться.
Точно так же влияют на летчика неумело подаваемые подсказывающие команды с Земли; пилот путается, когда одновременно нескольким абонентам передаются близкие по значению сообщения и он должен выбрать нужную ему информацию из многих сигналов, большинство которых являются для него лишь помехами.
Чтобы определить, насколько оператор устойчив по отношению к таким помехам, прибегали все к той же черно-красной таблице. Как только оператор подходил к самому трудному участку — к середине таблицы, — диктор начинал читать те же цифры, но в несколько измененном темпе. И те, кто недостаточно «помехоустойчив», сбивались, а то и вовсе прекращали эксперимент.
О том, как может действовать подсказка, говорил еще К. С. Станиславский: «По-моему, тот суфлер хорош, который умеет весь вечер молчать, а в критический момент сказать только одно слово, которое вдруг выпало из памяти артиста; но наш суфлер шипит все время без остановки и ужасно мешает, не знаешь, куда деваться и как избавиться от этого не в меру усердного помощника, который точно влезает через ухо в самую душу. В конце концов он победил меня, я сбился, остановился и попросил его не мешать мне». Но трудности работы в системе «человек — машина» этим отнюдь не исчерпываются.