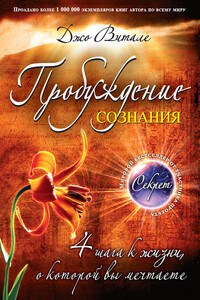Психологическое время личности - страница 18
Время жизни характеризуется неравномерным течением, оно зависит от особенностей жизненного пути и его субъективного отражения личностью. Равные в чисто хронологическом смысле периоды времени жизни обладают различным событийным содержанием, которое определяет особенности субъективного отношения к этим периодам времени. Подтверждают эту мысль данные, полученные в исследованиях по методике «график жизни».
Испытуемым предъявлялась расчерченная на клетки таблица, где нижняя горизонтальная линия, маркированная по десятилетиям, соответствовала времени жизни (от рождения — до 80 лет). Требовалось провести линию, соответствующую содержанию жизни испытуемого с реальными или предполагаемыми подъемами и спусками. При сопоставлении линии жизни с последовательностью основных жизненных событий обнаружилось, что линия шла вверх, когда происходили или ожидались положительные события, спуски же были связаны с негативными событиями в жизни испытуемого [Back, Morris, 1974, 219].
Неравномерность течения субъективного времени может определяться и тем, что в различных условиях жизни фактор времени имеет различную ценность для индивида. В определенных жизненных ситуациях может существовать избыток или дефицит времени для реализации индивидуальных планов. Как показывают исследования, в ситуациях дефицита субъективная ценность времени возрастает, а его течение переживается как ускоренное [Wallach, Green, 1961, 71].
В исследованиях временной перспективы личности и временных отношений в структуре ее жизненного пути накоплен богатый эмпирический материал. Однако более или менее целостная теория психологического времени личности, которая могла бы получить признание в психологической науке, в настоящее время еще не создана. Многие ученые причину этого видят в изначальной антиномичности времени, в загадочности его природы, ссылаясь при этом на авторитетные суждения выдающихся мыслителей прошлого. Один из наиболее продуктивных исследователей–экспериментаторов в этой области С. Голдстоун вынужден был признать, что «после десяти лет исследований и почти десяти тысяч испытуемых, загадок человеческого временного функционирования накопилось значительно больше, чем решений» [по Doob, 1971, 5]. Дело здесь, разумеется, не в особой таинственности проблемы времени, а в ошибочности исходных методологических принципов ее исследования — феноменологизме и эмпиризме.
В 70–х годах появились две работы, претендующие на общетеоретическую постановку проблемы психологического времени [Doob, 1971; Cottle, 1976]. Автор первой монографии «Модели времени» Л. Дуб предпринял попытку обобщить многочисленные факты, обнаруженные в предшествующих исследованиях, на основе разработанного им понятийного аппарата. Рассматривая временной потенциал личности, он выделяет в нем временную мотивацию, информацию и ориентацию, на взаимосвязь которых оказывают воздействие культурные, личностные и биологические процессы. Временной потенциал актуализируется в сознании человека в форме временных суждений. Специфику психологического времени Л. Дуб связывает с формированием первичных (спонтанных, феноменологических, не имеющих рационального объяснения) и вторичных (возникающих при переоценке первичных на основе опыта, интуиции, рефлексии или ссылки на определенные объективные стандарты) временных суждений. В терминах первичных и вторичных суждений рассматриваются проблемы субъективного счета и оценок времени, временных стандартов и стимулов, субъективного настоящего, прошлого и будущего. Разработанная понятийная схема является, на наш взгляд, абстрактным теоретическим конструктом, малопродуктивным для развития теории психологического времени. Во многих случаях ее применение только затрудняет понимание известных фактов. Так, например, факт актуализации в сознании фактора времени при необходимости достижения цели на «языке», принятом в монографии, получает следующую интерпретацию: «Временной мотив возникает или временная информация обнаруживается, когда временное суждение или информация имеют инструментальную ценность для достижения цели» [Doob, 1971,