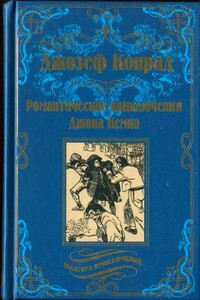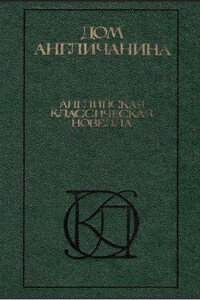Я поместил его, как вам известно, у де-Джонга, радуясь, что хоть как-нибудь его устрою. Однако я был убежден в том, что положение его становится теперь невыносимым. Он потерял ту гибкость, какая ему помогала занимать после каждого поражения независимую позицию. Однажды, сойдя на берег, я увидел его на молу; вода рейда и море вдали сливались в одну ровную вздымающуюся плоскость; суда, лежавшие на якоре за рейдом, казалось, неподвижно парили в небе. Он ждал своей лодки, которую нагружали у наших ног свертками мелких товаров для какого-то судна, готового к отплытию. Обменявшись приветствиями, мы молча стояли друг подле друга.
— Боже! — воскликнул он. — Это — убийственная работа.
Он улыбнулся мне; должен сказать, что обычно ему всегда удавалось улыбаться. Я ничего не ответил. Я знал прекрасно, что он намекает не на свои обязанности: у де-Джонга работой его не обременяли. Тем не менее, как только он замолчал, я окончательно убедился, что работа убийственная. Я даже на него не взглянул.
— Не хотите ли вы оставить эти края? — спросил я. — Переехать в Калифорнию или на западный берег? Я попытаюсь что — нибудь сделать.
С легким презрением он перебил меня:
— Какая разница?..
Я сразу почувствовал, что он прав. Разницы не было бы никакой; он искал не облегчения; кажется, я смутно понимал: то, чего он искал, не так-то легко поддавалось определению; пожалуй, он ждал какого-то благоприятного случая. Я предоставил ему немало таких случаев, но они сводились лишь к возможности зарабатывать себе на кусок хлеба. Но что еще можно было сделать? Положение казалось мне безнадежным, и пришли на память слова бедняги Брайерли: «Пусть он зароется на двадцать футов в землю и там остается». «Лучше это, — думал я, — чем ожидание невозможного на земле». Однако даже и в этом нельзя было быть уверенным.
Не успела его лодка отплыть от мола, как я уже принял решение пойти и посоветоваться вечером со Штейном.
Этот Штейн был богатый и пользующийся уважением негоциант. Его «фирма» (ибо то была фирма «Штейн и К0», был и компаньон, который, по словам Штейна, руководил делом на Молуккских островах) вела торговлю с островами; немало торговых станций, собиравших продукты, было основано в самых заброшенных уголках. Его богатство и респектабельность, в сущности, не являлись причиной, которая побуждала меня искать у него совета. Я хотел поделиться с ним своими затруднениями, ибо он был достоин доверия больше, чем кто-либо из тех, кого я знал. Мягким светом светилось его благодушное интеллигентное лицо, — лицо длинное, лишенное растительности, изборожденное глубокими морщинами и бледное, как у человека, который всегда вел сидячий образ жизни. Его жидкие волосы были зачесаны назад, открывая массивный, высокий лоб. Казалось, в двадцать лет он должен был выглядеть почти так же, как выглядел теперь — в шестьдесят. Это было лицо ученого; лишь почти совсем белые брови, густые и косматые, и твердый проницательный взгляд не гармонировали, если можно так выразиться, с его ученым видом. Он был высок и слегка развинчен; привычка горбиться и наивная улыбка придавали ему такой вид, словно он всегда готов благосклонно вас выслушать; руки у него были длинные, с большими бледными кистями; жестикулировал он редко. Я останавливаюсь на нем так долго, ибо этот прямой и снисходительный человек с наружностью ученого отличался неустрашимым духом и большой личной храбростью. Такая храбрость совершенно бессознательна, и ее можно было бы назвать безрассудством, если бы она не была подобна естественной функции организма — например, хорошему пищеварению.
Говорят иногда, что человек держит жизнь в своих руках. Такая поговорка к нему неприменима; в первые годы своей жизни на Востоке он играл в мяч со своей судьбой. Все это было в прошлом, но я знал историю его жизни и происхождение его богатства. Он был также и натуралистом, пользовавшимся некоторой известностью, или, вернее, ученым коллекционером. Его коллекция жуков, отвратительных маленьких чудовищ, которые даже теперь, мертвые и неподвижные, казались злобными, и коллекция бабочек, красивых и безжизненных под стеклянными ящиками, завоевали себе широкую известность. Имя этого торговца, искателя приключений и советника одного малайского султана (его он называл не иначе, как «мой бедный Мохамед Бонзо»), стало известно европейским ученым благодаря нескольким бушелям мертвых насекомых. Но европейские ученые ничего не знали о его жизни и характере, да это их и не интересовало. Я же, зная его, считал, что с ним больше, чем с кем бы то ни было, можно поделиться не только затруднениями Джима, но и моими собственными.