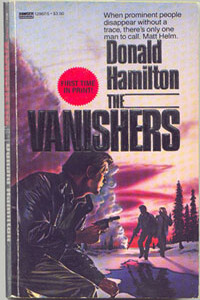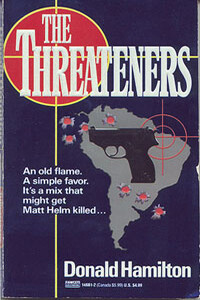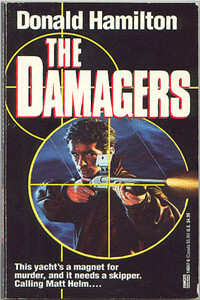— В общем, раз, два и обчелся, — засмеялся Глазунов.
— Впрочем, что тут странного! — продолжал Протасов, — русская душа — нараспашку! Пойдем по бокальчику, а?
— Стоит ли? — нерешительно сказал Глазунов.
— Посидим в ресторане, — настаивал Протасов.
— Нет, это слишком капитально. Что-нибудь облегченного типа. Например: «Соки-воды»... там есть «Цимлянское».
В павильоне четыре молоденькие официантки сидели за столиком, разговаривали.
— Милые девушки, — сказал Протасов, окинув взглядом витрину буфета. — Утолите муки жаждущих.
Официантки засмеялись. Одна подошла к ним.
— Садитесь за столик. Вам «Шампанского»?
— Вы удивительно прозорливы! — воскликнул Протасов. — Одну бутылку и два пирожных.
Выпили по стакану. Глазунов слегка наклонился над столиком и прижал руку к правому боку.
— Ты что?
— Сволочная штука. Аппендицит. Ноет и ноет. — Глазунов слегка поморщился.
— Вот тебе на! В наш просвещенный век ты не можешь избавиться от какого-то слепого отростка! — с укоризной сказал Протасов.
— Не хочу ложиться на операцию, — нахмурился Глазунов. — Нет ничего приятного.
Протасов насмешливо свистнул:
— Эге! Какая повышенная требовательность к жизни — чтоб даже болезнь и та была приятной.
— Ну, положим, это не совсем так, — Глазунов посмотрел на часы. — Однако пора ехать.
Протасов проводил Глазунова до остановки автобуса.
— Ничего, Петя, если я тебе завтра звякну?
— Вот чудак, конечно, звони. Я ведь сейчас как вольноопределяющийся.
Главный почтамт, как всегда, монотонно гудел голосами людей и перестуком штемпельных печатей.
Вебер подошел к окошечку, взял несколько телеграфных бланков, заполнил их четким упругим почерком:
Все телеграммы начинались одинаково: «Валентина выходит замуж. Ждем вас свадьбу...»
Телеграфистка улыбнулась понимающей улыбкой и втайне позавидовала незнакомой Валентине, на свадьбу которой телеграммы сзывали гостей из Москвы, Киева, Риги, Орла. После того, как Вебер вышел из почтамта, в ее кабинку вошел неприметного вида человек, Окошечко захлопнулось.
«Гора с горой не сходится»
За окнами постепенно затихал, отходил к ночному покою город.
Дорохов ходил по кабинету, заложив руки за спину, шагал не спеша, видимо, обдумывая что-то.
Широкоплечий, стройный, высокий, размеренно шагал он по кабинету. И так был легок его шаг, что казалось — это не шестидесятилетний генерал, а тот, давний краском Первой Конной Алексей Дорохов, «Муромец», как звали его в то время, а потом, когда работал в ОГПУ, «перекрестили» в «Поддубного».
Посмотреть — легко, в достатке шагал человек по жизни! А на самом деле?
Детство — с кваса на воду в волжском селе Дубовка, потом с четырнадцати лет, как началась империалистическая, работал на французском заводе в Царицыне. В шестнадцать его арестовали: «мутил» рабочих на царицынских лесопилках. Как малолетнего выслали в Дубовку. Работал там на пристани — грузил баржи знаменитыми камышинскими арбузами, таскал тяжелые «пятерики» с пшеницей. Потом записался в Красную гвардию. Бился с Деникиным, Красновым, Врангелем, белополяками, Махно и более мелкой сошкой — бандитскими атаманами, что объявлялись то тут, то там и в большинстве случаев так же быстро исчезали, оставив на своем пути пожарища, трупы замученных сельчан, сирот, искалеченную, опустошенную землю.
С тех времен, к непогоде, вспоминал Алексей Васильевич и окоп возле Воропоново, в который свалился с плечом, пронизанным пулей, и холодную ноябрьскую ночь — по пояс в ледяной воде Сиваша, и бросок под Казатиным, когда косой вспышкой взметнулся над ним белопанский палаш...
А ОГПУ! Выстрелы из-за угла, бессонные ночи, распутывание вражеских хитросплетений.
Навали такое на дуб — не вынесет, сломится, а он вынес и даже не погнулся! Посмотреть — легко жил человек, и шестьдесят лет только и следа оставили, что возле рта горьковато-суровые русла проточили, да пеплом припорошило голову...
Дорохов посмотрел на часы — без пяти два. «Еще пять минут». Он потянулся, хрустнул пальцами и подошел к столу.
Рефлектор настольной лампы «журавля» был нацелен на объемистую черную папку.
Зазвонил телефон.
— Дорохов у телефона!