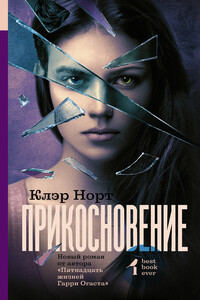На камне под утесом собрались кучкой женщины, они что-то тянут из воды. На спинах у них пустые плетеные корзины, некоторые из них обвязали пояса веревками. Эти женщины, жены пропавших мужей, – такие же упрямые, как камни, – собираются залезть в эти самые пещеры, где, по слухам, контрабандисты Фенеры держали свои сокровища. Женщины жестоко разочаруются тем, что найдут там.
Пенелопа приближается к ним, и они отходят, опустив глаза. Она кивает им и делает вид, что не замечает их снаряжения, выдающего тех, кто готов поживиться оставшимся без присмотра добром. Она глядит на то, что плавает в неглубокой отмели между черными блестящими скалами, – то, что женщины пытались вытащить на сушу. Кровь почти смыло отливом, хотя на камнях, поверх зеленой бахромы слизи и темно-синих водорослей, осталась по верхней линии прибоя тонкая алая полоска. Тело уже начало разбухать, но вода раздувает вокруг него хитон, и это не так заметно. Волосы, словно пена, плавают вокруг головы. Он всегда гордился своими волосами, упругими кудрями с медным отливом.
Женщины втаскивают тело на сухие камни, и под их пальцами его плоть скользит и оползает, как шкурка с луковицы. Они переворачивают его на спину. Мелкие рыбешки, что заплывают в каменистые отмели с приливом, кусали его за лицо и грудь, прозрачные прибрежные червячки обсасывали шелушащуюся кожу и серые глаза – этот человек – целый пир для них.
– Знает его кто-нибудь? – спрашивает Пенелопа.
– Да, – отвечает, не задумываясь, одна из женщин, потому что она честная; и тут же об этом жалеет, ведь на нее теперь смотрит царица, а она-то сама не пришла ли сюда, часом, для того чтобы украсть то немногое, что осталось от незаконных богатств Фенеры? Вообще-то, да, именно за этим и пришла. Ну что ж, теперь уже поздно.
– Его зовут Гиллас. Он купец.
– Он… моих лет. – Царице не пристало упоминать свой возраст, но, когда на острове так мало мужчин и не с кем сравнить, иногда даже женщине приходится говорить о себе. – Он с Итаки?
– Нет, он из Аргоса, но бывал на севере и на западе. Торговал янтарем и оловом с варварами, а с микенцами – бронзой и вином.
– Странно, что я его не знала.
Они пожимают плечами. О мертвых не принято говорить плохо.
Эос опускается на колени, чтобы прошептать молитву, и получше рассматривает труп. Из двух служанок она более прагматична в вопросах смерти. Кровь, плоть, жидкости, гной – кто-то же должен этим заниматься, а хорошая служанка знает, как быть полезной. Она задирает его подбородок, видит маленькую рану между челюстью и горлом, отводит одежду, чтобы посмотреть, нет ли еще ран, не находит их, хмурится и бросает взгляд на Пенелопу.
Пенелопе вовсе не хочется вставать на колени на мокрый камень рядом с раздутым зловонным трупом, который выглядит так, будто, если нажать на него, мышцы лопнут и наружу полезут внутренности, – но ведь она пришла по делу. Она принимает позу, которая, как надеется, наилучшим образом выражает достойную царицы задумчивость: прижимает руки к груди и вслух – чтобы слышали другие – молится Аиду, чтобы тот был добр к несчастному и побыстрее пропустил его в Элисий. Автоноя отгоняет женщин, велит им принести ткань, чтобы закрыть тело, просит освободить царице место для молитвы. Если Эос всегда спокойна, то Автоноя в совершенстве овладела искусством произвольной истерики: в самый нужный момент она умеет пасть на землю и зарыдать.
Женщины отходят немного, и Автоноя шепчет дрожащими губами: «Какое горе!» – и эти слова уносит морской ветер. Было время, когда Эос и Автоноя не терпели друг друга, как огонь и лед, но годы научили их ценить те достоинства, что есть у другой, так что теперь Эос наделяет подругу полуулыбкой, а потом снова обращает все свое внимание на мертвеца.
Этот Гиллас не молод. Пожалуй, он мог бы возить припасы под Трою, разбогатеть на золоте, украденном из города и отданном ему в уплату за зерно, что накормило войска Агамемнона. Но он и не сгорбленный старик. Он мог бы стать хорошим рабом. Пальцы его огрубели от весел и веревок, но живот кругл, и он хорошо поел перед смертью.