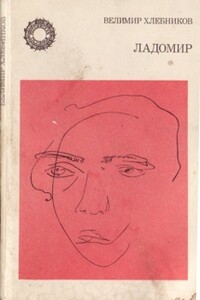„Какие наглецы!“ — скажут некоторые. „Нет, они святые!“ — возразят другие. Но мы улыбнемся и покажем рукой на солнце: „Поволоките его на веревке для собак, судите его вашим судом судомоек — если хотите — за то, что оно вложило эти слова и дало эти гневные взоры. Виновник — оно“.
Правительство Земного Шара — такие-то».
Этим воззванием был начат поэтический год, и с ним в руках два самозваных Председателя земного шара вечером садились на поезд Харьков — Москва, полные лучших надежд.
Нашей задачей в Петрограде было удлинить список Председателей, открыв род охоты за подписями, и скоро в список вошли очень хорошо отнесшиеся члены китайского посольства Тинь-Э-Ли и Янь-Юй-Кай, молодой абиссинец Али-Серар, писатели Евреинов, Зенкевич, Маяковский, Бур-люк, Кузмин, Каменский, Асеев, художники Малевич, Куф-тин, Брик, Пастернак, Спасский, летчики Богородский, Г. Кузьмин, Михайлов, Муромцев, Зигмунд, Прокофьев, американцы — Крауфорд, Виллер и Девис, Синякова и многие другие.
На празднике искусств 25 мая знамя Пред<седателей> з<емного> ш<ара>, впервые поднятое рукой человека, развевалось на передовом грузовике.
Мы далеко обогнали шествие. Так на болотистой почве Невы было впервые водружено знамя Председателей земного шара.
В однодневной газете «Заем Свободы» Правительство земного шара обнародовало стихи: «Вчера я молвил: гуля, гуля! И войны прилетели и клевали из рук моих зерно».
Это было сумасшедшее лето, когда после долгой неволи в запасном пехотном полку, отгороженном забором из колючей проволоки от остальных людей, по ночам мы толпились у ограды и через кладбище — через огни города мертвых — смотрели на дальние огни города живых, далекий Саратов. Я испытывал настоящий голод пространства и на поездах, увешанных людьми, изменившими Войне, прославлявшими Мир, Весну и ее дары, я проехал два раза, туда и обратно, путь Харьков — Киев — Петроград. Зачем? Я сам не знаю.
Весну я встретил на вершине, цветущей черемухи, на самой верхушке дерева, около Харькова. Между двумя парами глаз была протянута занавеска цветов. Каждое движение веток осыпало меня цветами. Позже звездное небо одной ночи я наблюдал с высоты крыши несущегося поезда; подумав немного, я беспечно заснул, завернувшись в серый плащ саратовского пехотинца. На этот раз мы, жители верхней палубы, были усеяны черной черемухой паровозного дыма, и когда поезд остановился почему-то в пустом поле, все бросились к реке мыться, а вместо полотенца срывали листья деревьев Украины.
— Ну, какой теперь Петроград! Теперь — Ветроград! — шутили в поезде, когда осенью мы вернулись к Неве.
Я основался в селе Смоленском, где по ночам на таинственных поездах с погашенными огнями ездили ходи, шатры вооруженных цыган были раскинуты в болотистом поле и вечно сиял огнями дом сумасшедших. Мой спутник, Петровский, большой знаток привидений, обратил мое внимание на одно деревцо — черную настороженную березку, стоявшую за забором.
Оно чутко трепетало листами от малейшего ветра. На золотистом закате каждый черный листок дерева выделялся особенно зловеще. Оно, такое, какое оно есть, настойчиво приходило к нему во сне каждую ночь. Петровский начал относиться к нему с суеверным вниманием. Позднее он открыл, что береза растет над мертвецкой, где хранились до вскрытия тела убитых. Это было уже в самый разгар событий. Мы жили у рабочего Морева, и у него, как и у многих жителей окраины, в это время хранились куски свинца для отлива пуль. «Так, на всякий случай»…
Под грозные раскаты в Царском Селе прошел день рождения. Когда по ночам, возвращаясь домой, я проходил мимо города сумасшедших, я всегда вспоминал виденного во время службы безумного рядового Лысака и его быстрый шепот: «Правда е, правда не, правда есть, правда не».
Все быстрее и быстрее делался его учащенный шепот, тише и тише, безумный прятался под одеяло, уходил в него с подбородком, скрываясь от кого-то, сверкая только глазами, но продолжая шептать нечеловечески быстро. Потом он медленно подымался и садился па постель; по мере того как он подымался, шепот его становился громче и громче; он застывал на корточках с круглыми, как у ястреба, глазами, желтея ими, и вдруг выпрямлялся во весь рост и, потрясая свою кровать, звал правду бешеным, разносившимся по всему зданию голосом, от которого дрожали окна: