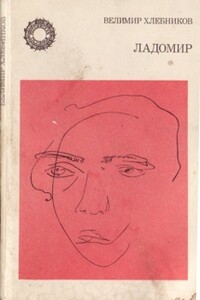— Я поступил, как ворон, — думал я, — сначала дал живой воды, потом мертвой. Что ж, второй раз не дам!
7
Думая о камне, с написанной на нем веткой простых серо-зеленых листьев и этими словами «Если бы смерть кудри и волос носила твои, я умереть бы хотела», Ка летел в синеве неба как золотистое облако; среди малиновых облачных гор, настойчиво маша крылами, затерянный в стае красных журавлей, походившей в этот ранний час утра на красный пепел огнедышащей горы, красный, как и они, и соединенный с пламенеющей зарей красными нитями, вихрями и волокнами.
Путь был неблизок, и уж капли пота блестели на смуглом лице Ка, тоже красные от лучей зари. Но вот могучая журавлиная труба воинственных, предков зазвучала где-то выше, за рыхло-белыми громадами.
Ка сложил крылья и, осыпанный с ног до головы утренней росой, опустился на землю. На каждом его пере торчал жемчуг росы, черный и грубый. Никто не заметил, что он опустился где-то в истоках Голубого Нила. Он отряхнулся и, как озаренный месяцем лебедь, ударил трижды по воздуху крылами. К прошлому не было возврата. Друзья, слава, подвиги — все впереди. Ка сел на злого, дикого, никогда не оскорбленного седоком полосато-золотого копя и, позволяя ему кусать свои теневые, но все же прекрасные колена, поскакал по полю. Стадо полосатых щетинистых волков с гнусавым криком гналось за ним. Их голос походил на обзор молодых дарований в ежедневной и ежемесячной печати. Но золотистый скакун упрямо загибал голову и с прежним бешенством грыз теневой локоть Ка. Он наслаждался дикой скачкой. Два или три Ням-Пям бросили в него ядовитую стрелу и с суеверным ужасом упали на землю. Он приветствовал землю, потрясая рукой. У водопада он остановился. Здесь он попал в общество обезьян, с светской непринужденностью расположившихся на корнях и ветках деревьев. Одни держали пухлыми руками младенцев и кормили их; младшие возрасты с хохотом проносились по деревьям.
Черная рубашка, могучие низкие черепа, кривые клыки давали страшный отпечаток этому обществу волосатых людей Крики буйной сладости доносились из сумрака по временам Ка вошел в их круг.
— Тогда, — вздохнул почтенный старик с мозолистым лицом, — все было иначе. Уж птица Рук исчезла. Где она? И мы не боремся с Ганноном, вырывая мечи и ломая их о колено, как гнилой хворост, и покрывая себя славой он ушел снова в море. А птица Рук? Я не могу завернуться одним ее могучим пером и спать на другом! А давно ли она, слетая с снежных гор, утром будила слонов своим криком. И мы говорили: «Вот птица Рук!» Тогда она подымала за облака слонят; и они смотрели вниз на землю, и хобот их был ниже тучи, как и ноги, а глаза, серый лоб и уши — выше голубой черты тучи. Она отошла! Прости о Рук!..
— Прости, — заметили обезьяны, подымаясь с своих мест.
Здесь же, у костра, сидела Белая, кутаясь в остатки шали. Вероятно, она зажгла костер и в силу этого пользовалась некоторым почетом.
— Белая! — обратился к ней старик, — когда ты шагала через пустыню, мы знали; мы послали молодежь — и ты у нас, хотя многие в последний раз взглянули на звезды. Спой нам на языке своей родины.
Молодая Белая встала.
— Посторонись, бабушка! — сказала златоволосая девушка старой обезьяне, сидевшей на дороге.
Золотые волосы одевали ее в один сплошной золотой сумрак. Слабо журча, они лились вниз, как зажженные воды, мимо плеча, покрасневшего и озябнувшего. Вместе с прекрасной скорбью, отразившейся в ее движениях, она была поразительно хороша и чудно стройна. Ка заметил, что на ногте красивой правильной ноги отразилась вся площадка леса, множество обезьян, дымящийся костер и клочок неба. Точно в небольшом зеркале, можно было заметить старцев, волосатые тела, крохотных младенцев и весь табор лесного племени. Казалось, их лица ожидали конца мира и чьего-то прихода.
Они были искажены тоской и злобой; тихий вой временами вырывался из уст. Ка поставил в воздухе слоновый бивень и на верхней черте, точно винтики для струн, прикрепил года: 411, 709, 1237, 1453, 1871; а внизу на нижней доске года: 1491, 1193, 665, 449, 31. Струны, слабо звеневшие, соединяли верхние и нижние гвоздики слонового бивня.