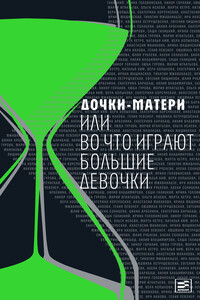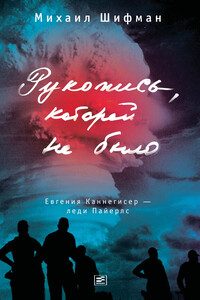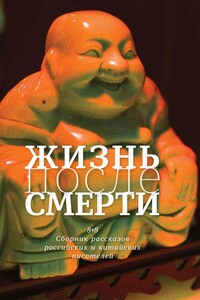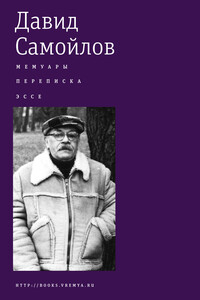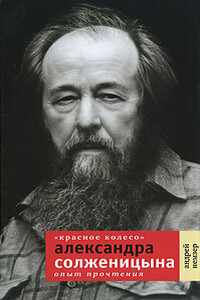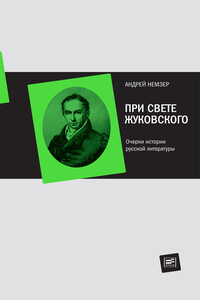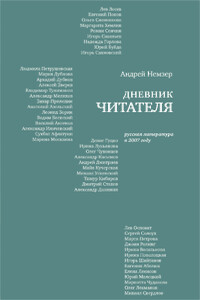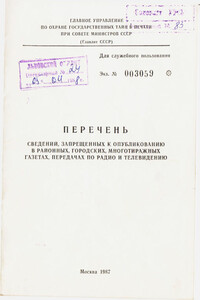Проза Александра Солженицына. Опыт прочтения - страница 215
Так ведь сложились дела к «Весне Двадцать Второго». Хотя каток коллективизации еще не разогрет, но земля, брошенная в 1917-м мужичью ради успеха переворота, уже отобрана назад государством, только что (в мае) ставшим ее «верховным собственником и распределителем». «Антоновщину» уже год как раздавили: «Рубка партизанских голов в Туголукове. — В Каменке. Массовые расстрелы на выгоне; похороны без гробов. Отца Михаила Молчанова котовцы вывели с литургии и зарубили» («Май — Июнь Двадцать Первого»).
И если тогда «главный бандит» утек, то теперь-то ЧК свою службу спроворила.
Только и в самые черные годы нисходит на землю высшая справедливость.
Организатор невиданного (и вопреки бреху всех балалаек удавшегося) эксперимента, жалкий сектант-эмигрант (которого слушали кучка ущербных недоумков да нелюбимая жена), занявший место Ивана Грозного, Петра Великого, Николая Кровавого, ничем не ограниченный властитель огромной и богатейшей (сколько ни разоряй, изрядно останется) страны, вождь мирового пролетариата, с которым вынуждены считаться лидеры мировых держав и треклятые западные капиталисты, хозяин бесчисленных человеческих жизней («расширить применение расстрела») — беспомощнее малого дитяти. Существовать на земле ему осталось полтора года. То страдая от физических мук, то вовсе выпадая из жизни, то — при проблесках разума — задыхаясь от ужаса и тщетно пытаясь вернуть выпавшую из омертвелых рук власть. Потому что вернейшему ученику (вскоре после переворота подведенному к кормилу: «Негласно создано полновластное „бюро ЦК“ большевиков, „четвёрка“ для решения всех экстренных и важнейших дел: Ленин, Троцкий, Свердлов, Сталин» — «Декабрь Семнадцатого») никакой Ленин больше не нужен. Он сам теперь (и надолго, на тридцать с лишком лет) Ленин. И Ленин — когда возвращается к нему сознание — это понимает, но ничего поделать не может.
А мужик, выслуживший офицерский чин и возглавлявший крестьянскую армию, растворился в России. Вряд ли обрел он спокойную и достойную жизнь, но все-таки палачам не достался. Словно свидетельствуя исчезновением своим о неистребимости народного стремления к свободе. Даже когда всем приказано двигаться по единственному накрепко закованному маршруту, этапы которого размечены пятью Эпилогами.
Эпилог Первый — год 1928-й. Внутрипартийная оппозиция разгромлена; Троцкий из СССР выслан; первая пятилетка с индустриализацией объявлены; коллективизация на пороге… И Шахтинское дело, после которого вовсю развернется изничтожение старой технической интеллигенции, инженеров, организаторов производства. Вскоре будет в третий раз при советской власти арестован Пётр Акимович Пальчинский (Ободовский «Красного Колеса»); выдержит следствие, не признает сфабрикованных обвинений, не даст выбиваемых ОГПУ показаний — расстреляют его в 1929-м. Допустимо предположить, что в этом Эпилоге отводилась ему важная (если не центральная) роль.
Эпилог Второй — год 1931-й. Загадочная точка. Быть может, Солженицын намеревался вновь, после «Архипелага…», показать процесс Союзного Бюро Меньшевиков, участники которого (выжившие члены давно сведенной на нет социалистической партии) оказались достойны своих былых вождей. Как те, страшась ленинцев в 1917 году, постоянно, вплоть до самого захвата власти, им уступали и подыгрывали, так эти вяло произносили надиктованные обвинителями словеса, признавая все, что им предъявлялось. К процессу был притянут свидетелем Козьма Антонович Гвоздев, «мученик-долгосидчик ГУЛАГа» (взят в 1928-м, отпущен умереть на воле в 1957-м), один из самых обаятельных персонажей «Красного Колеса». Это он в последнюю ночь перед революцией видит во сне святого деда, плачущего так горько, что ответа на вопрос, по ком же старик плачет, «и сердце не вмещает» (М-17: 69).