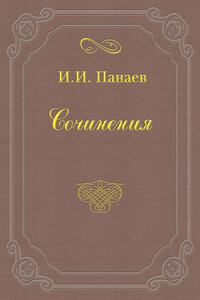Всем, кому пришлось испытать то, что называется вдохновением, знаком этот внезапный прилив воодушевления — единственный признак совершенства мысли, при своем появлении подстегнувшей нас пуститься ей вослед и мгновенно делающей слова податливыми, прозрачными, взаимно отражающими друг друга. Познавшие это хоть раз знают, что без вдохновения не стоит излагать свою мысль, какой бы правильной она ни казалась, свою концепцию, какой бы продуманной она ни представлялась, и ждут этого душевного подъема — единственного признака того, что сказанное стоит быть сказанным и заставит биться сердца других. И до чего же грустна пора, когда этот подъем не возобновляется, когда с каждой пришедшей нам мыслью мы понапрасну ожидаем воодушевления, обновления, при которых в мозгу словно бы исчезают все перегородки, все барьеры, всякая неестественность и при которых все наше существо похоже на некую лаву, готовую излиться и беспрепятственно принять желаемую форму. Ведь мы способны сохранить в наших деяниях неотразимость, доставляющую удовольствие тем, кто любил нас, как сохраняем мягкие и приятные черты лица, взгляд, по которым все еще можно определить: «это он», как все еще — и, может быть, даже чаще, чем прежде, — блистаем в беседе с друзьями меткими сравнениями и свойственными нам одним остротами. Мы способны сохранить это в наших деяниях, потому что мы, безусловно, бережем в себе то непостижимое существо, которым являемся, существо, обладающее даром придавать всему определенную и уникальную форму.
Нам известно, что такая-то страница была написана без вдохновения, что редкие мысли, понравившиеся нам, не породили себе подобных; все судьи земли могут твердить: «Это лучшее из содеянного вами», — мы лишь грустно качаем головой в ответ, ибо готовы отдать все это за минуту былой неизъяснимой силы, которую ничто не может вернуть нам. Без сомнений, в этом последнем концерте еще звучит любимая и знакомая интонация, но одна мысль уже не влечет за собой множество других, а сама ткань произведения и менее ценна, и более разрежена. Произведения, коими упивался создатель, обладая магической силой, могут продолжать опьянять других; для него самого это уже ничто. Он изнывает в ожидании.
Но когда зима не говорит уже ничего нового его душе, — потому что для него теперь все дни похожи друг на друга, — и невыразимая сила времен года не встречает в нем отклика, не приводит его в восторг, где-то далеко от него, в провинциальном городке, два человека, офицеры, может быть, считающие его уже мертвым, условились о встрече и, пока другие отправились на прогулку, сели за рояль. И тогда…
Гонкуры перед своими младшими собратьями по перу: г-н Марсель Пруст>{215}
Благодаря полученной мной в 1919 году премии>{216} часть наследства г-на Эдмона де Гонкура досталась мне. Таким образом, по отношению к одному из авторов «Рене Мопрен»>{217} я оказался в трудном положении наследника, о котором он понятия не имел или, по крайней мере, которого не называл в числе таковых. Это обязывает меня с большой осторожностью и почтительностью отзываться о нем, а не заводить у себя его бюст (подобно славному бедняге Кальметту>{218}, который держал бюст Шошара в редакции «Фигаро», освященной его смертью).
Когда мне было двадцать лет, я часто встречал г-на де Гонкура у г-жи Альфонс Доде>{219} и у принцессы Матильды>{220} в Париже и Сен-Грасьене. Блистательная красота Альфонса Доде не затмевала красоты надменного и робкого старца, каким был г-н де Гонкур. С тех пор мне не приходилось сталкиваться с подобными примерами внешнего благородства (при всем их различии). Эра титанов закончилась для меня незабываемым обликом этих двух людей…
Недоброжелательность и пренебрежение гостей салона принцессы Матильды по отношению к г-ну де Гонкуру очень огорчали меня. Некоторые весьма интеллигентные дамы прибегали ко всякого рода уловкам, чтобы не называть ему своего «приемного дня». «Он слушает, запоминает, а потом описывает нас в своих мемуарах». Это подчинение всех своих обязанностей — светских, дружеских, семейных — долгу быть служителем правды могло бы составить величие г-на де Гонкура, если бы он понимал само понятие «правды» в более глубоком и широком смысле, если бы он создал больше живых людей, в описание которых наблюдение, выпавшее из памяти, но записанное в дневник, невольно вносит некое иное, расширительное толкование. К несчастью, вместо этого он наблюдал, брал на заметку, вел дневник, что негоже делать великому художнику, мастеру. Однако, несмотря ни на что, дневник этот, так ославленный, остается дивной и занимательной книгой. Полный находок стиль, нельзя, по моему мнению, назвать, как это сделал Даниель Алеви, вышедшим из-под пера неумелого в области французского языка ремесленника. Я многое мог бы сказать об этом стиле, возьмись я его анализировать. Вообще же я исследовал его — в целом оценив положительно — в своих «Подражаниях и смеси»