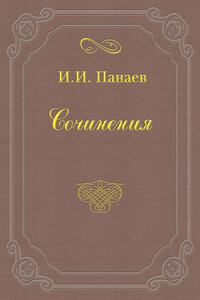Все эти полотна чрезвычайно глубоки и способны занимать умы самых великих из нас на протяжении всей жизни, хотя и не сверх того, в силу не зависящего от нас материального предела, и, будучи явлением, важность которого с годами не уменьшилась и которое в оставшиеся годы или недели кажется по-прежнему значительным и не утратившим своей реальности, трогать нас в конце жизни столь же живо, как и в ее начале. Однажды в Амстердаме на выставке рембрандтовских полотен я увидел, как в галерею в сопровождении старой компаньонки неуверенной походкой вошел старец с длинными вьющимися волосами, угасшим взором и, несмотря на следы былой красоты, глуповатым видом — до того старики и немощные уже при жизни похожи на мертвецов или идиотов и являются существами исключительными, о неподражаемой воле которых, изумляющей целый семейный клан, меняющей судьбы государства или милующей обреченного на смерть, красноречиво свидетельствует дрожащая узловатая рука: никому не дано помешать этой руке поставить подпись, когда, сидя с оледеневшими конечностями в своей теплой спальне, старец грезит о печальном; неразборчиво начертанная рукой восьмидесятилетнего, эта подпись в силу произведенного ею эффекта будет свидетельствовать о нетленности его мысли или, если она развернулась в книгу либо поэму, где трепещет ирония загримированной в старчество души, будет свидетельствовать о великолепной, блещущей остроумием игре ума; ведь в те самые дни, когда она была начертана, болезненные и нескончаемые гримасы парализованного лица наводили нас при встрече со старцем на мысль о том, что он впал в детство. Напротив, этот старик с белыми длинными вьющимися волосами был прекрасен, несмотря на потухший взор и неловкие движения. Я как будто узнавал его. Вдруг кто-то рядом со мной произнес его имя, уже вошедшее в бессмертие и словно проступившее сквозь небытие: Рёскин. Он доживал свои последние дни и все же приехал из Англии полюбоваться картинами Рембрандта, гениальность которых сознавал уже в двадцатилетнем возрасте. Он прохаживался перед выставленными полотнами, разглядывал их, словно не видя, и каждое его движение, в силу старческого бессилия, было продиктовано одной из тех бесчисленных необходимостей материального свойства — не выпустить трость из рук, откашляться, повернуть голову, — что как мумию окутывают старика, ребенка, больного. Но чувствовалось, что, несмотря на слой лет, покрывший его потемневшее лицо, глаза, в глубине которых, теперь столь бездонной, нельзя было прочесть ни душу Рёскина, ни его жизнь, — это все тот же, хоть и неузнаваемый Рёскин, что на своих непослушных ногах, остающихся тем не менее ногами Рёскина, пришел отдать дань уважения Рембрандту. Эти два столь несовместимых образа — незнакомый, еле бредущий старец и живущий в нашем представлении творец — это был он, Рёскин; сопричастность великой души и гения этой немощной оболочке была почти сверхъестественной, как и сам миг, когда дух овладевает телом, когда в немощном теле признаешь незаурядную личность, мысль, существующую независимо от всякого тела, мертвого или живого, и как бы бессмертную. Как, Рёскин, нечто нематериальное, обрел свое воплощение, и человек этот еще жив, и вот он передо мной? Он, который в молодости посещал выставки Рембрандта и посвятил ему столько блестящих страниц? Представший, подобно героям рембрандтовских полотен, в сумеречном освещении, покрытый патиной времени, он все еще был ведом стремлением постичь прекрасное. С той минуты, как приехавший издалека Рёскин вступил в зал музея, оказалось, что увидеть полотна Рембрандта стало делом еще более достойным, а для Рембрандта явилось как бы желанной наградой, и если бы взгляд его, словно вперяющийся в нас из глубины его законченных полотен, мог увидеть Рёскина, художник шагнул бы к нему, как властелин, распознавший в толпе равного себе. Да, стоило появиться Рёскину, и полотна художника стали казаться еще более достойными нашего поколения или, скорее, сама живопись в том, что она может подарить лучшего, стала казаться чем-то более значительным с той минуты, как человек такого ума, близкий к своему последнему часу, все еще интересовался ею в пору жизни, когда наслаждению, даже изысканному, уже не придают значения, все еще прибегал к ней как к одной из тех реальностей, что побеждают смерть, даже если та кладет конец доступу к красоте.