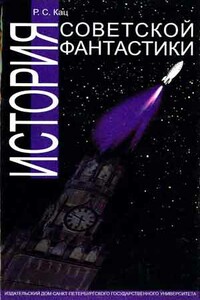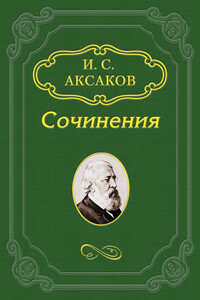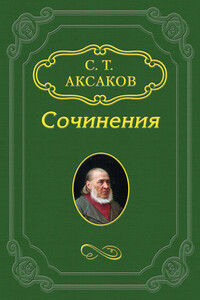Против Сент-Бёва - страница 18
Что может быть трогательнее, чем эта скудость средств у выдающегося и авторитетного критика, изощренного в элегантности слога и красноречии, знающего, как расцветить свою мысль, сделав ее утонченной или шутливой, как выразить умиление, заискивание, погладить по шерстке. Всего этого лишена его поэзия. От его обширной культуры, литературной многоопытности остались лишь побеги выспренности, банальности, не слишком осознанной экспрессии, а образы хоть и строго отобраны, но натужны: это напоминает изысканность и прилежность стихов Андре Шенье или Анатоля Франса. Но надуманно и не оригинально. Он пытается воспроизвести то, чем восхищался у Теокрита, Купера, Расина. От него самого, не рассуждающего, безотчетного, сокровенного, неповторимого, осталась одна натянутость. Она в его стихах частая гостья, поскольку естественна для него. Но эта малость, искренняя и чарующая, имя которой — его поэзия, эта умелая и порой удачная попытка передать чистоту любви, грусть вечеров в больших городах, магию воспоминаний, впечатление от прочитанного, меланхолию недоверчивой старости свидетельствует (поскольку чувствуется, что она — единственное подлинное в нем) о незначительности всего его великолепного, объемистого и кипучего критического труда, ибо все чудесное в его творчестве сводится лишь к этой малости. «Понедельники» — видимость. Горстка стихов — реальность. Стихи критика — это груз на весах, определяющих, суждена ли вечность плодам его пера.
Жерар де Нерваль
Ныне, когда все единодушно провозглашают «Сильвию»>{47} шедевром, суждение Сент-Бёва кажется поразительным. Однако восторженность, с какой принимают сегодня «Сильвию», зиждется на таком извращенном восприятии этого произведения, что я, пожалуй, предпочел бы для него забвение, в котором оставил его Сент-Бёв и откуда, по крайней мере, оно могло бы вновь восстать в своей чудесной свежести и первозданности. Правда, даже из этого моря забвения, обезображивающего, уродующего, окрашивающего в несвойственные тона, шедевру следует всплывать в свой срок, когда его встречает подлинное понимание, возвращающее ему его красоту. Возможно, полное забвение нанесло бы греческой скульптуре меньший урон, чем толкование Академии, равно как трагедиям Расина — трактовка неоклассицистов. Лучше вовсе не читать Расина, чем видеть в нем Кампистрона>{48}. Теперь-то он очищен от этого шаблонного восприятия и предстает перед нами столь же оригинальным и полным новизны, как если бы только что был открыт. То же — с греческой скульптурой. И открытием ее мы обязаны Родену, то есть антиклассицисту.
Сегодня принято считать, что Жерар де Нерваль был писателем, принадлежавшим не своему, а XVIII столетию, однако избежавшим влияния романтизма, этаким истым галлом, приверженцем национальной традиции и местного колорита, развернувшим в «Сильвии» безыскусное и тончайшее полотно идеализированной французской жизни. Вот что сделали из этого человека, двадцати лет от роду переводившего «Фауста», навещавшего Гёте в Веймаре, всем своим вдохновением, вскормленным иностранной почвой, служившего романтизму, с юности подверженного приступам безумия, кончившего сумасшедшим домом, тосковавшего по Востоку, совершившего-таки путешествие туда и наконец найденного повешенным в проеме потайной двери на каком-то поганом дворе, так что, принимая во внимание своеобразие его образа жизни, к которому привели эксцентричность его натуры и поврежденный рассудок, трудно решить: сам ли он наложил на себя руки в приступе безумия или был повешен одним из своих дружков — оба предположения одинаково правдоподобны. Он был одержим безумием, но не тем своего рода естественным безумием, не оказывающим воздействия на мыслительную способность, которое мы наблюдаем у тех сумасшедших, что до и после приступа болезни проявляют скорее излишнюю смышленость, чересчур рассудительны, уравновешенны и мучимы лишь меланхолией чисто телесного свойства. Сумасшествие Жерара де Нерваля, нарождающееся и еще не проявившееся открыто, — не более чем разновидность предельного субъективизма, повышенного интереса к сновидению, воспоминанию, личностному восприятию ощущения, а не к тому, что есть в этом ощущении общего для всех, воспринимаемого всеми, то есть реальности. И когда эта предрасположенность — по сути художническое дарование, — по мысли Флобера, ведущая ко взгляду на реальность лишь как на «материал для описываемой иллюзии» и к созданию иллюзий, годящихся для описания некой реальности, — так вот, когда эта предрасположенность оборачивается в конечном счете безумием, последнее настолько является продолжением литературной своеобычности его носителя в том, что есть в ней самого существенного, что он описывает свое безумие по мере того, как ощущает его, во всяком случае до тех пор, пока оно поддается описанию, подобно тому как художник, засыпая, наблюдает за изменениями, происходящими в его сознании в момент перехода от бодрствования ко сну, пока такая раздвоенность возможна. К этому же периоду его жизни относятся изумительные стихотворения, среди которых, может быть, и следует искать лучшее из написанного по-французски в области поэзии, но которые столь же непонятны, как и стихи Малларме, и, по мнению Теофиля Готье, рядом с ними Ликофрон