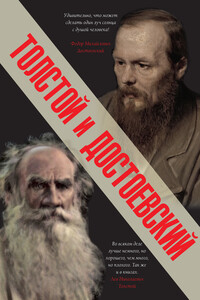Пять минут на подготовку. Все ребята распределились по ролям. Я же был в крайней растерянности, не знал, что делать. Пригласили на сцену. Уже выходя, предупредил партнеров: буду директором. От страха родился выход. «Что это такое? Что это за работа? Ничего не очистилось. Как было пятно, так и есть», – спрашивала клиентка приемщицу. «Действительно, что это такое?» – переспрашивал директор. «Какое пятно, никакого пятна», – отвечала приемщица. «Действительно, никакого пятна», – невозмутимо повторял я. И так по нескольку раз. Эти повторы «на голубом глазу» спасли меня. Комиссия улыбалась. Ректор училища народный артист СССР Борис Евгеньевич Захава попросил почитать что-нибудь серьезное, патетическое.
– Александр Сергеевич Пушкин! – объявил я.
О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас?.. –
обратился я к экзаменаторам, как бы совершенно по-бытовому и конкретно.
– Спасибо, спасибо, достаточно! – рассмеялся Борис Евгеньевич.
«Не вышло, – подумал я, – не вышло с патетикой. Чего они ржут?» Но тут же услышал, как Мансурова наклонилась к Захаве и сказала ему: «Это мой мальчик». Борис Евгеньевич одобрительно кивнул. Только убедившись, что я всем понравился, Цецилия Львовна позволила себе эту «протекцию». До этого она никому ничего не говорила. Считала невозможным.
Меня допустили к общеобразовательным экзаменам. Английский язык, история, сочинение и собеседование. Английский я ненавидел. Рыжая экстравагантная учительница в школе буквально издевалась надо мной. Каждый урок одно и то же: «Стеблов, к доске, плиз». И я – длинный, в кителе, волосы назад скоком: «Ай донт ноу» («Я не знаю»). «Садись, два». И так до конца четверти. В конце четверти: «Вызови мать!» Приходила мама. В то время она была директором соседней школы. Они любезно беседовали. На другой день рыжая вызывала меня, ставила пятерку и выводила тройку в четверти. Я не сопротивлялся, молчал, не говорил: «Ай донт ноу». В следующей четверти все повторялось сначала. Так вот к экзаменам в институт я подготовился эксклюзивно. Вызубрил на английском разные выражения. Например: «Что-то тут душновато. Нельзя ли открыть форточку? Дайте, пожалуйста, карандаш. Нет, не тот. Лучше вот этот». Напихал в карманы шпаргалок. Списал все, что можно. Произвел впечатление человека свободно владеющего языком и получил «отлично». Сам не поверил. Историю сдал на четыре. Ну а уж в сочинении я не сомневался. Взял свободную тему. Играл словом. Получил тройку – сделал несколько орфографических ошибок. Говорят, некоторые большие писатели тоже писали с ошибками. В этом мы схожи. На собеседовании улыбающийся Захава только и спросил меня: «Сколько вам лет?» «Шестнадцать», – признался я. Члены комиссии тоже заулыбались: «Идите, спасибо».
Через несколько дней я смотрел списки поступивших и не верил своим глазам. Меня приняли! Пришел домой. «Приняли!» Пообедал и опять поехал в училище на втором троллейбусе через всю Москву на Арбат. Опять смотрел списки. А вдруг ошибся? Уже после Мансурова призналась мне, что исправила мое сочинение. Ошибок было на двойку, а меня хотели принять. Понравился.
31 августа 1962 года впервые собрался наш курс. Наш худрук Анатолий Иванович Борисов знакомил нас друг с другом. Каждый читал фрагмент из репертуара, с которым он поступал. Обыкновенно, если среди выпускников одного курса два-три человека обретают признание зрителей, становятся известными, – это считается хорошо. У нас был уникальный курс: Инна Гулая, Валя Малявина, Маша (Марианна) Вертинская, Наташа Селезнева, Боря Хмельницкий, Толя Васильев, Эра Зиганшина, Земфира Цахимова, Нонна Терентьева, ваш покорный слуга…
Какое счастье: никакой физики, химии. Вместо этого русская и зарубежная литература, изобразительное искусство, русский и зарубежный театр, французский (о, насколько он милее английского!) и мастерство, мастерство, актерское мастерство, а вечером в театр бесплатно, по студенческому удостоверению. Правда, вот танец никогда не нравился. Танцевал конечно, но без удовольствия. На экзамен по танцу собиралось пол-института – на меня. Посмеяться.