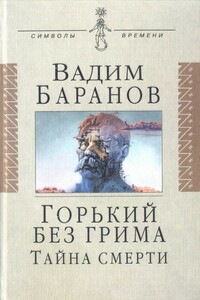Я подумал, что речь идет о каком-то очередном изобретательском порыве Андрея Федоровича, стоившем ему здоровья и ускорившем его кончину. Однако рассказала мне Тамара совсем о другом.
В последний раз он пролежал в больнице недолго, но чуть ли не накануне смерти там же в палате неожиданно зарегистрировал брак с медицинской сестрой, с которой прежде не был знаком. Тамару это потрясло. За много лет они так и не собрались оформить свои отношения, она никогда этому не придавала значения, могла ли она думать, что ее ждет?
Я не знал, что ей ответить. Может быть, ей не все известно, может быть, у него и раньше были какие-то отношения с этой женщиной? Нет никаких. Она бы знала. Объяснение она находила только одно: или он уже не осознавал свои поступки, или его чем-то опоили, воспользовались его беспомощным состоянием. Разве можно это так оставить?
Я прекрасно понимал ее, очень ей сочувствовал, но не представлял, что мы в силах сейчас сделать. Вряд ли у нас есть право вести какое-то расследование, что-то выяснять, кого-то расспрашивать, выставлять напоказ последние дни его жизни, трепать имя Андрея Федоровича и давать пищу сплетникам. Да и что это даст, когда его уже ни о чем не спросишь, он в могиле?
Больше Тамара мне не звонила.
Еще один человек, перед которым я чувствовал себя виноватым.
Весной 1988 года я работал в писательском доме творчества в Малеевке. Как-то меня позвали к телефону. Звонили из редакции. «Вас разыскивает председатель Верховного Суда СССР Теребилов. Он сейчас в санатории в Барвихе, вот его телефон».
Я позвонил, и Владимир Иванович сказал, что готов выступить в газете. Есть разговор, который он бы не стал откладывать. Спросил: «Вам не хочется посмотреть, как живет начальство? Может, навестите меня в Барвихе?» Шутя, я поинтересовался: «А как живут писатели, вам не интересно? Не хотите приехать в Малеевку?» Неожиданно он согласился. Назавтра его лимузин, с трудом помещаясь на малеевских дорожках, подъехал к моему корпусу.
Проблема, которая его волновала, касалась судебной реформы. Разговоров о ней идет много, а практически мало что делается. Следствие по-прежнему играет доминирующую роль, диктует судам свою волю. «Надо перевернуть „пирамиду“, поставить ее в естественное положение», — сказал он.
Мы договорились, что я подготовлю для газеты беседу с ним.
Уже прощаясь, Владимир Иванович сказал, что в Верховном Суде находится одно реабилитационное дело, оно должно меня заинтересовать. Однако материалы эти секретные, открыто их дать мне он не может. «Приезжайте в Москву, что-нибудь придумаем».
Оказалось, речь шла о первой жене Бухарина Надежде Михайловне Лукиной-Бухариной. Она была его двоюродной сестрой.
Знакомство с этим делом происходило так. Меня заперли в одной из комнат Верховного Суда, если мне что-нибудь понадобится, я могу позвонить по телефону помощнику Теребилова. Бутерброды и чай мне принесут. Два тома я должен успеть прочесть и наговорить на диктофон до шести часов вечера. Ровно в шесть дело у меня заберут.
Причину такой секретности во времена, когда страшный произвол тридцатых годов ни для кого уже не оставался тайной, объяснить можно было только одним: дела эти хранили имена палачей и их пособников, назвать которые многим работникам спецорганов все еще было не с руки.
Дело Лукиной-Бухариной очень страшное.
Когда началось наступление на Бухарина, Надежда Михайловна написала Сталину три письма: в то, что Бухарин принадлежит к террористической организации, она не верит, это ложь. Когда Бухарина арестовали, она пишет в партийную организацию Государственного издательства Советская Энциклопедия, где состояла на партийном учете: «Я не могу скрыть от партийной организации, что мне исключительно трудно убедить себя в том, что Николай Иванович Бухарин принадлежал к раскрытой преступной бандитской террористической организации правых или знал о ее существовании…»
В ночь на 1 мая 1938 года ее арестовали.
Во время допроса у больной, полупарализованной женщины разбили гипсовый медицинский корсет, без которого она не могла передвигаться. Двое конвоиров втащили ее в камеру и бросили на пол. Она объявила голодовку. Ее стали кормить насильно. Приходили два раза в день, скручивали руки, вставляли в ноздри шланги и кормили.