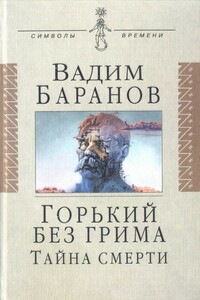«Тер, — говорил Суслов, — у меня есть отличный материал. Но показывать его вам я не стану. Вы ведь все равно зарубите». «Конечно, — отвечал Артур Сергеевич, — зарублю. Всем известно, что я маленький трусливый армянин. И все-таки, что за антисоветчину вы притащили в зубах?» — «Не делайте вид, что вам любопытно, Тер, — говорил Суслов. — Ни за что ведь не поверю». — «А мне и не любопытно, правильно, — отвечал Артур Сергеевич. — Это вам, Илюша, любопытно, под каким предлогом я зарежу ваш поклеп на нашу прекрасную действительность».
Разговор такой мог продолжаться очень долго. И оба собеседника, и мы, зрители, получали от него огромное удовольствие. Бывало, что после этого «поклеп на нашу прекрасную действительность» все-таки ложился в папку: «Пойдет». Но случалось, что и пополнял грустную папку с надписью: «Что вы, никогда не пойдет!»
«Литературная газета» отличалась от других печатных изданий того времени не только тем, что ей разрешалось быть нестандартной, иметь собственное лицо. Люди в редакции работали тоже далеко нестандартные. Действовала единая, крепко спаянная команда, но команда людей чрезвычайно разных.
Заместителем ответственного секретаря был Владимир Константинович Кокашинский, превосходный журналист, неиссякаемый выдумщик и наш постоянный мучитель, потому что его никогда не устраивала кем-то с ходу предложенная идея, даже если всем другим она казалась удивительной и прекрасной. Он долго молчал и задумчиво, даже печально глядел на нас. Мы раздражались, говорили, что «Кока» сам не знает, чего он хочет, ну что, что ему опять не нравится? Он не отвечал нам, не спорил, продолжал печально на нас глядеть. У него были красивые, очень выразительные серые глаза. Мы сердились, волновались, доказывали, что в любой идее, в любом материале можно найти порок, что лучшее враг хорошего, что мы так вообще никогда не выпустим газету. А он по-прежнему молчал, только взгляд его становился все более далеким и печальным. И вдруг он что-то говорил. Поначалу его мысль казалась нам странной, абсурдной, даже нелепой, он предлагал, скажем, выбросить половину статьи, а вторую половину превратить в диалог автора со своим героем. Или — не описывать подробно само происшествие, дать о нем в двух словах, но зато рассказать, что было до него и как развивались события после… Но постепенно мы начинали понимать, что именно такой ход, такой поворот, такой аспект и сделает обычный материал — необычным, «литгазетовским». Слово это служило высшим мерилом похвалы, все материалы делились не на хорошие и плохие, а на «литгазетовские» и «нелитгазетовские».
Сам Кокашинский писал немного, но я не помню ни одной его проходной, нейтральной статьи. Каждая из них поднимала какой-то пласт жизни, затрагивала какую-то острую, болезненную проблему. Особенно интересовала его экономика. На всю стану прогремел его очерк «Эксперимент в Акчи» — об экспериментальном хозяйстве Худенко. Он был директором совхоза, ввел бригадный подряд, ликвидировал уравниловку и заработки впрямую связал с результатами труда. В итоге они существенно повысились, и совхоз процветал. Такое начинание подрывало существовавшую везде систему, простить ему этого, разумеется, не могли, и против него было заведено уголовное дело. Кокашинский написал на материале эксперимента в Акчи кандидатскую диссертацию и даже успел защитить ее в Плехановском институте. Однако рецензент ВАК’а (некто Мрачковская) прислала разгромный отзыв, обвинив автора в ревизионизме и множестве других самых тяжких грехов. Диссертация была похоронена. Худенко тем временем посадили в тюрьму, а Кокашинского неделями таскали на допросы в прокуратуру, грозя тоже привлечь в качестве обвиняемого. Худенко в тюрьме погиб, а Кокашинского редакции, к счастью, удалось отбить. Однако история эта не прошла для него даром, через некоторое время он тяжело заболел и умер. Так тоже заканчивалась порой честная и вроде бы не выходящая за рамки дозволенного, подцензурная работа журналиста.
Рано ушел из жизни и Евгений Михайлович Богат, наш праведник, философ, книгочей, знаток литературы и искусства, обладатель прекрасной эйнштейновской шевелюры. Он любил писать о чудаках, о человеческом бескорыстии, о духовности, о нравственных исканиях. Мы, люди практичные, приземленные, иной раз заводили с ним шутливый, ироничный разговор о его «заоблачных высотах». Евгений Михайлович живо откликался, с удовольствием включался в разговор, отвечал нам весело и остроумно. Ему нравилось философствовать, и наша ирония по поводу его философствования ему тоже нравилась.