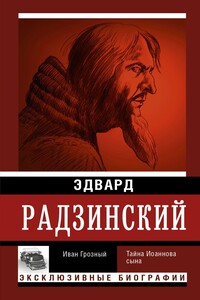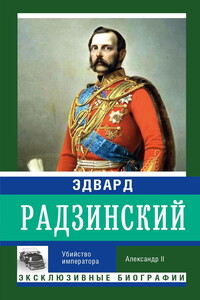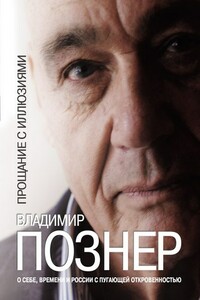Как человек, родившийся и выросший не в России, человек, который постигал Россию и ее культуру не изнутри, не естественным путем, не как нечто само собою разумеющееся, а как явление, хотя и притягательное, но чужое, я много размышлял над тем, что есть «русскость»? Какое сочетание черт формирует русского? Или, скажем, грузина, француза, американца? Перечисление черт не приносит ровно никакого результата, поскольку оказывается, что они есть у всех. И тем не менее их вполне причудливое и, я бы даже сказал, таинственное переплетение дает в итоге то, что простым перечислением невозможно определить. Из всех знакомых мне литературных героев самый русский – Василий Теркин. Это мое субъективное восприятие, но это так. Он для меня гораздо более русский, чем такие сказочные и, следовательно, народные фигуры, как Иван-дурак, Илья Муромец и прочие. Теркин для меня вполне легендарен в смысле его обобщенного образа русского человека.
Твардовского открыл Маршак. Это было в тридцатых годах – деревенский парень со Смоленщины, в лаптях, пешком дошел до Москвы. Он явился к Маршаку, держа в одной руке завернутые в материнский платок продукты, а в другой – исписанную химическим карандашом ученическую тетрадку; пришел к Маршаку потому лишь, что с детства знал его фамилию, читал его книжки. Как поведал мне Самуил Яковлевич, он чуть не свалился со стула, когда начал читать «каракули» этого неотесанного мужика. Это были, по его словам, замечательные стихи, подобных которым он уже давно не встречал.
Маршак не мог наговориться, рассказывая о гениальной простоте поэзии Твардовского, о сочном народном языке, о его выразительности.
Чаще всего Самуил Яковлевич приводил в качестве примера вот эти строчки:
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, –
Ни приметы, ни следа.
И в самом деле, точнее не скажешь, за несколькими словами возникает целая картина. Просто? Да. И непереводимо. Как, в частности, непереводим Пушкин – не в том смысле, о котором я уже писал, а в своей простоте. Самое короткое расстояние между двумя точками – прямая линия. Ее не улучшишь, ее по-другому не изложишь. Я читал множество переводов Пушкина на английском языке, и не было ни одного, который хоть в чем-то напоминал его. Все слишком просто, слишком гениально. Сравниваю ли я Твардовского с Пушкиным? Нет, конечно. Но отношусь с презрением к снобам, которые смотрят на Твардовского свысока, считая его слишком доступным, недостаточно элитарным, понятным и без ученой степени. Смех, да и только! Самое великое искусство просто, как Эверест, как океан, как огонь. В простоте той – красота, мощь, бессмертие и непостижимая сложность.
Твардовский нередко заходил к Маршаку, и мне было позволено сидеть тихо в углу и слушать их беседы. Как и большинство советских людей, Александр Трифонович в свое время восхищался Сталиным и безмерно верил ему. Но в отличие от многих, он сам же подверг эту веру сомнениям. В результате родилась поразительная поэма «За далью даль». Самое первое чтение этой работы, еще в рукописи, состоялось в кабинете Самуила Яковлевича, и я имел счастье присутствовать при нем. Это лишь один из множества примеров того, какими уникальными были мои обстоятельства, благодаря которым я имел возможность непосредственно слышать и слушать литературу и рассуждения корифеев того времени.
Кроме того, мне позволялось находиться в «лаборатории» Маршака, в его кабинете, когда он писал. Я был свидетелем того, как он работал, как раз за разом правил, перечеркивал, начинал с начала и вновь перечеркивал. Писательство – дело трудное, это знают все, это, так сказать, общее место; но чтобы понять, насколько оно трудное, надо увидеть муки сидящего за столом. Маршак садился за стол в девять утра и выходил из-за него в девять вечера, он работал как одержимый, доводя себя до полного изнеможения в поисках точного слова, точной рифмы. Самуил Яковлевич уже был на литературном олимпе, ему не требовалось никому ничего доказывать, все, что он писал, печаталось без разговоров. Словом, он мог не стараться. А он трудился на пределе своих возможностей. Художник иначе не может, художник – это… Нет, я и пробовать не буду дать определение, тем более, что это уже сделано бесподобно и точно Уильямом Фолкнером: