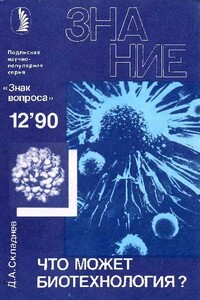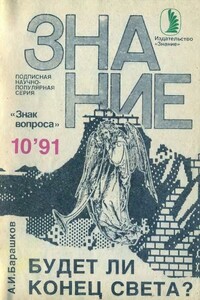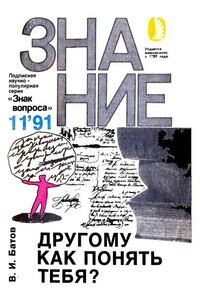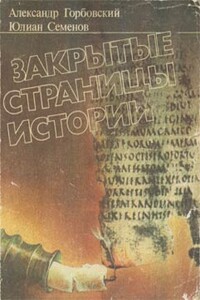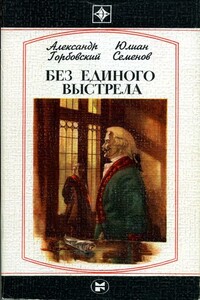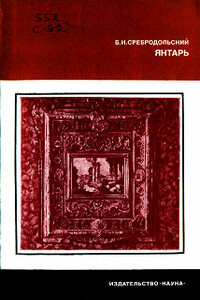К измененным состояниям сознания, дающим выход в реальности высшего плана, можно, полагаю, отнести и некоторые формы творческих состояний, когда художнику, творцу, писателю приоткрывалось вдруг то или иное явление будущего.
Классический пример — «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» Эдгара По, опубликованная в 1838 году. В ней говорится, как четверо спасшихся от кораблекрушения, много дней бедствовали в открытом море. Доведенные до отчаяния жаждой и голодом, трое убивают и съедают четвертого. Эдгару По угодно было дать этому четвертому имя Ричард Паркер.
Прошло почти пятьдесят лет. В 1884 году потерпел крушение и затонул корабль «Магнонетт». Четверо спасшихся, как и герои Эдгара По, оказались в одной шлюпке. После многих дней безнадежных скитаний по пустынному морю, обезумев от голода и жажды, они убили и съели четвертого. Имя этого четвертого оказалось Ричард Паркер.
Никакой интуицией, никакой случайностью невозможно объяснить столь полное совпадение. Тем более что факт этот не единственный.
В 1898 году в издательстве «Мэнсфилд» был опубликован роман М. Робертсона «Тщетность», не привлекший к себе, впрочем, внимания современников. Интерес, любопытство, недоумение по поводу этого произведения проявились позднее, после трагической гибели «Титаника» в 1912 году. Почему из множества имен, которые автор мог бы дать своему кораблю, он выбрал именно «Титаник»? Ведь реальный «Титаник» был задуман и построен много позднее и погиб при обстоятельствах, подобных описанным в романе. В романе, как позднее в реальности, корабль и люди на нем гибнут от столкновения с айсбергом. При этом у «литературного» прототипа число винтов, скорость и даже максимальная вместимость оказались те же, что потом у его реального собрата. Как и рассказ Эдгара По, случай этот не поддается объяснению с позиций линейной логики.
Целый ряд подобных же прорывов в будущее, прозрений находим мы и у русских писателей и поэтов.
Как и в обыденной жизни, прозрения эти чаще всего касаются событий гибельных, катастрофических. Не этим ли предчувствием грядущих событий можно объяснить странные прозрения писателей, относящиеся к революции? За сто лет до революции и того, что последовало за ней, Лермонтов написал пророческие строки:
«Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон».
Повторяю, это писалось за сто лет до «черного года», до свержения и убийства последнего российского императора вместе с его детьми и семьей, до массовых казней и лагерей. «И пища многих будет смерть и кровь».
Вспомним пророческие строки Достоевского из его «Дневника писателя» в 1877 году: «Предвидится страшная, колоссальная стихийная революция, которая потрясет все царства мира изменением лика мира всего. Но для этого потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови.» И еще: «Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут низлагать религию, разрушать храмы и превращать их в стойла, зальют мир кровью, а потом сами испугаются…»
Причем писались эти пророческие строки за сорок лет до событий 1917 года, когда в общественной жизни не было, казалось, ни малейших признаков надвигающейся трагедии. Не удивительно, что последующие семьдесят лет к этим строкам новые властители России предпочитали не обращаться и не вспоминать их.
Все эти годы под таким же забвением и запретом находилась и пророческая антиутопия Александра Богданова «Красная звезда», в которой еще в 1904 году он предугадал не только черты надвигавшегося тоталитарного режима, но и даже его символику, вынесенную в заглавие романа.
Среди таких пророчеств и неслучайных совпадений есть моменты, когда русский человек не знает — плакать ему или смеяться. За полвека до революции сатирик Салтыков-Щедрин написал повесть «История одного города», где под городом Глуповым не одно поколение русских читателей узнавало страну, в которой они жили. Губернатор-тиран, повествует Щедрин, едва приняв власть над несчастным городом, отменил все праздники, оставив только два. Один отмечался весной, другой осенью. Именно так в первые же годы поступили большевики, отменив в стране все традиционные и религиозные даты, введя вместо них два праздника. При этом один отмечался весной (1 мая), другой осенью (7 ноября). Совпадения не кончаются на этом. У Щедрина весенний праздник «служит приготовлением к предстоящим бедствиям». У большевиков 1 мая всегда был «днем смотра боевых сил пролетариата» и сопровождался призывами к усилению классовых битв и к свержению капитализма. Иначе говоря, ориентирован на бедствия грядущие. Что касается осеннего праздника, то, по Щедрину, он посвящен «воспоминаниям о бедствиях уже испытанных». И словно нарочно — 7 ноября — праздник, установленный большевиками, был посвящен ими памяти своей революции и всего, что с ней было связано.