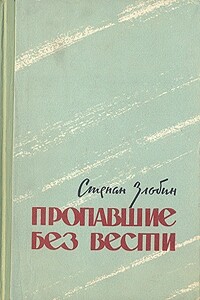— Ну, по правде, я в этих местах романтики как-то совсем не заметил, — отозвался майор. — Лес захламлен — это верно, а лешего или бабы-яги не встречал... Дороги действительно никуда не годятся, хлопот с ними много. И овражные пропасти крутоваты...
Варакин махнул рукой:
— Ты не с той точки зрения! Я ведь сердцем чувствую эти места как родные. Тут, в этих яругах, может, не то что Дениса Давыдова, а Минина и Пожарского ополченцы засады свои держали... В какой хочешь зной, в самый полдень, на дно такой пади спустись — и озноб между плеч у тебя поползет. По дну, в глубокой расточнике, чуть бьется ключ, деревья, от корня и сколько дотянешься вверх рукой, влажным мхом, как шубой, одеты, и вдруг среди бела дня то ли волк, то ли еще неведомо кто почудится за кустом, и жуть пробежит по спине... А болотники разогретые медом дышат... А то вдруг по ровной долинке пойдет березняк — как свечки, как девочки...
— Здорово у тебя получается, — усмехнулся Бурнин,— прямо поэма! А я ведь оперативник, прозаик. Мне видится все по-другому. Хотя бы вот эти твои яруги и пади... Должно быть, в такие гадючьи гнезда, где экие страсти-мордасти, немцы не очень полезут. Верно ты говоришь, в таких местах партизанам удобно.
— А что немцам в гадючьих местах, когда они не в гадючьих нас давят! Неужто уж так и не в силах мы их удержать и дальше фашисты к нам вломятся?! — с болью, общей в те дни для всей России, воскликнул Варакин.
— Да держим ведь, Миша! — возразил майор. — Сам видишь, дальше-то не пускаем! Ведь их до сих пор никто и на месте держать не умел... А мы уж не раз кое-где даже назад их попятили. А немцы, ты знаешь, народ аккуратный, им давно уж по расписанию полагалось бы быть в Москве... Помнишь, в «Войне и мире» Веройтера: «Die erste Kolonne marschiert...» и так далее... Они в расписании — как в седле. А мы из седла-то их вышибли, Мишка! Вот Ельня… Ты скажешь: ну что же, Ельня! Как будто бы и пустяк, Михаил, а в то же время это звонкая оплеуха… Конечно, можно сказать, что пощечины — это не главное средство воздействия на бандитов. И это правильно. Но вот что тут важно: боец наш тут кое-что уже понял. Под Ельней и Ярцевом он крепко понял, что если мы очень хотим, то перед фашистами держимся, не отступаем! А где научились стоять, там научимся и вперед продвигаться. И вот видишь — продвинулись. Сначала давнули на Духовщину, а там Ельню отняли. Это серьезнейший факт в истории нашей войны... Погоди, только силы подкопим, доктор! Такую махину, как наша родина-матушка, поднять на дыбы — время нужно! В данный момент, как я понимаю, наступать мы еще не будем. Но уж назад ни шагу! — уверенно заключил Бурнин. Он посмотрел на часы и сказал:
— Знаешь, Миша, у меня еще минут сорок. Ты ведь Татьяне Ильиничне написать захочешь. Так садись, сочиняй. Я пока помолчу. Она что, в Москве? Или где-нибудь «далеко на востоке»?
Варакин взглянул с благодарностью на товарища.
— Нет, в Москве. Уговаривал на восток — не едет, — ответил он. — Да ведь весь их театр в Москве. Пишет, что бомбежек боится, а все же не едет... Спасибо, я напишу. А ты посиди поскучай, не то — хочешь — на койку ложись.
Варакин достал бумагу, развел водою сгустившиеся чернила в незаткнутом пузырьке, который стоял на оконце, и на том же столе примостился писать.
Бурнин машинально расставлял шахматные фигуры по доске, не убранной со стола сослуживцами Михаила.
Взаимная привязанность Бурнина и Варакина длилась с юности. Когда Михаил только окончил университет, Бурнин, тогда еще комвзвода, года два жил в одной с ним квартире, в маленькой комнатке рядом с кухней, дружил с Михаилом, ухаживал за его сестрой и по очереди почти за всеми ее подругами, а потом по службе перевели его на Дальний Восток. Связь между ними постепенно ослабла и даже на время оборвалась.
Но вот года четыре спустя, как-то в субботу перед обедом, до Михаила из прихожей донесся знакомый гудящий голос.
Явился Бурнин уже в звании старшего лейтенанта. Он сообщил, что «на старости лет» его посадили за парту — прислали в Москву, в академию. Так начался второй период их дружбы.