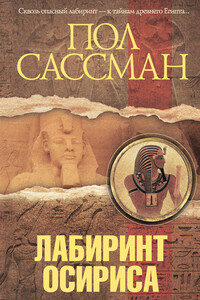Лэнгдон выбирался из стальной спирали, и голова у него шла кругом от противоречивых мыслей. Разговор с Киршем одновременно заинтриговал и встревожил его. Даже если Кирш преувеличивает, похоже, этот компьютерный гений действительно открыл что-то такое, что перевернет многие фундаментальные представления о мире.
Открытие, сравнимое с революцией Коперника?
Лэнгдон наконец выбрался из стального коридора. Голова у него слегка кружилась уже и в прямом смысле. Он поднял с пола наушники и пристроил на место.
– Уинстон? Алло!
Послышался легкий щелчок. Компьютерный экскурсовод с британским акцентом был тут как тут:
– Приветствую вас, профессор. Я слушаю. Мистер Кирш просил проводить вас к грузовому лифту, поскольку через атриум мы не успеем, времени мало. И еще он выразил надежду, что размеры лифта вас приятно удивят.
– Очень мило с его стороны. Он же знает, что у меня клаустрофобия.
– Теперь и я это знаю. И буду всегда об этом помнить.
Уинстон провел Лэнгдона через боковую дверь по служебному проходу с бетонными стенами к дверям лифта. Кабина действительно оказалась огромной, явно предназначенной для подъема экспонатов невероятных размеров.
– Верхняя кнопка, – сказал Уинстон, когда Лэнгдон вошел в кабину. – Четвертый этаж.
Наверху лифт остановился, и Лэнгдон вышел.
– Направо, – звучал в голове Лэнгдона жизнерадостный голос Уинстона. – Теперь по галерее налево. Это кратчайший путь к зрительному залу.
Следуя указаниям Уинстона, Лэнгдон шел по внушительной галерее, где были выставлены странные инсталляции: пушка, время от времени стреляющая мягкими красными восковыми ядрами в белую стену, сплетенное из проволоки каноэ, на котором, очевидно, нельзя было плавать, целый маленький город из полированных металлических блоков.
У самого выхода из галереи внимание Лэнгдона привлекла масштабная инсталляция, перед которой он остановился как вкопанный.
Ну наконец-то, подумал Лэнгдон. Вот и самый странный экспонат в музее.
Во всю ширину зала простиралась высокая – до потолка – дуга. Она напоминала поток, составленный из множества чучел серых волков, застывших на бегу, в прыжке, в полете. Поток с размаху ударял в прозрачную стеклянную стену, стекал по ней и застывал грудой мертвых волчьих тел.
– Эта композиция называется «Прямолинейность», – пояснил Уинстон. – Девяносто девять волков слепо мчатся в стеклянную стену, что символизирует стадный менталитет, не позволяющий хоть на миллиметр отклониться от общепринятой нормы.
Лэнгдона поразила актуальность инсталляции. Сегодня Эдмонд намерен максимально «отклониться от общепринятой нормы».
– Если вы пройдете немного вперед, – сказал Уинстон, – то слева будет проход к живописной ромбовидной композиции. Ее создатель – один из любимцев Эдмонда.
Лэнгдон взглянул на яркую картину впереди и сразу узнал характерные линии, чистые цвета и веселый парящий глаз.
Хуан Миро, подумал Лэнгдон. Ему всегда нравились веселые работы этого знаменитого каталонца, похожие и на детские книжки-раскраски, и на сюрреалистические витражи.
Но приблизившись, он с удивлением заметил, что поверхность картины абсолютно гладкая, без единого следа кисти.
– Это что – репродукция?
– Нет, оригинал, – ответил Уинстон.
Лэнгдон рассмотрел картину поближе. Похоже, напечатана на широкоформатном принтере.
– Уинстон, но это же напечатано. Это даже не холст.
– Я не работаю с холстом, – ответил Уинстон. – Я творю виртуально, а потом Эдмонд распечатывает.
– Постой, – с недоверием сказал Лэнгдон, – так это твоя работа?
– Да. Я попытался изобразить что-нибудь в стиле Хуана Миро.