Еще один важный психологический штрих в поведении Онегина как создателя собственных мемуаров: начиная с шестой главы, он все более неохотно возвращается к своему повествованию; вот, процитировав мысли «горожанки молодой»:
Что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слез прошла пора?
И где теперь ее сестра?
И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудак,
Убийца юного поэта? (XLII),
он завершает с переходом на лирику:
Со временем отчет я вам
Подробно обо всем отдам,
Но не теперь. Хоть я сердечно
Люблю героя моего,
Хоть возвращусь к нему, конечно,
Но мне теперь не до него…
Затем следует описание отъезда Онегина, которое фактически ведется от первого лица и эмоционально окрашено переживаниями рассказчика; глава заканчивается очередным лирическим отступлением.
В следующей, седьмой главе он так и не выполняет своего обещания, Онегин-персонаж в ее фабуле отсутствует; Онегин-рассказчик все никак не может совладать со своими чувствами, вызванными комплексом вины, этот комплекс уводит его от эпического повествования. Вот, уже в самом конце этой главы, пытаясь избавиться от преследующей его лирики, он как молитву произносит заклинание, которое даже выделяет курсивом как несобственную речь:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкривь.
Вот на какое-то время ему показалось, что это заклинание подействовало, что эпическая муза поможет ему избавиться от музы лирической, что он сможет завершить свое повествование без сбоев; и он с оптимизмом завершает не удавшуюся ему главу – уже без курсива (то есть, уже за рамками своего заклинания): «Довольно. С плеч долой обуза! (надо полагать, под «обузой» он понимает лирику?) Я классицизму отдал честь: Хоть поздно, а вступленье есть». Значит, надеется-таки, что доведет повествование до конца.
Но вот, приступая к написанию следующей главы и перечитав уже написанное, он убеждается, что фактически выдал свою идентичность с героем, и не раз; исправить ничего нельзя, слишком поздно – предыдущие главы уже опубликованы; он в легкой панике, и не находит ничего лучшего, как начать завершающую главу с изложения от первого лица части биографии Пушкина. Уже первый стих восьмой главы отсылает читателя к началу пушкинского стихотворения «Демон»; чтобы закрепить впечатление об «авторстве» Пушкина, Онегин вводит в XII строфу стих «Иль даже Демоном моим», подчеркнув прописной буквой, что речь идет не о демоне вообще, а о конкретном, «моем», то есть, пушкинском стихотворении. Но к этому времени его внутреннее смятение становится настолько глубоким, что он, несмотря на свои явные поэтические способности, допускает целый ряд серьезных стилистических погрешностей, которые выдают факт подлога. Даже в эпическом повествовании ему не удается отделаться от «окровавленной тени» Ленского (8-XIII)…
Рассказчик в шоке; к комплексу вины добавляются переживания, связанные с любовью и отказом Татьяны; описывая сцену в будуаре, он вынужден заново пережить глубокие чувства; этого его психика выдержать уже не может, наступил неизбежный срыв; несмотря на то, что конец седьмой главы он уже успел обозначить как окончание «вступления» и что это фактически подтвердило его намерение продолжить свою поэму до объема «песен в двадцать пять», он не в силах совладать с чувствами и резко обрывает повествование… «надолго…» – нет, подумав: «навсегда» – так и не сумев исполнить свое намерение, и теперь читателю ретроспективно приходится буквально выуживать продолжение из многочисленных «авторских» отступлений – благо Онегин успел проговориться и о втором своем путешествии в Италию, и о третьем – в Африку, и о том, что на склоне лет остался одиноким и забытым читателями…
Еще одна психологическая доминанта Онегина-рассказчика – «комплекс Татьяны». Схематически выписанная в эпической фабуле (с учетом авторства этой фабулы) его любовь к ней воспринимается теперь как действительно амбивалентное чувство. Степень самоотверженности влюбленного Онегина определяется хотя бы тем, что все его воспоминания, содержащие большую долю доходящей до самоуничижения иронии в собственный адрес, и в авторстве которых он не желает ни в коем случае признаться нам, посторонним читателям, адресованы Ей, той единственной, которой по его замыслу будет известна идентичность автора. Теперь возникшее у Онегина чувство раздирается противоречиями. Он не только влюблен, но и оскорблен ее отказом; он не в состоянии подавить низменный инстинкт мести, и это проявляется во всем – от двусмысленного Посвящения («Хотел бы я тебе представить Залог достойнее тебя» – похоже, здесь не просто проявление подсознательного, а эпатаж, обернутый в язвительную лесть с демонстративно-мнимым переводом смысла в «прямое» значение) до описания последнего свидания с Татьяной, которое позволило Белинскому отметить так много негативизма в образе Татьяны – ведь этот негативизм исходит не от Пушкина, а все от того же Онегина, изображающего эту сцену сквозь призму уязвленного самолюбия. И вот именно этот фактор побуждает нас снова возвратиться к «посвящению»: теперь уже и слова «Достойнее […] Святой исполненной мечты» воспринимаются как откровенная ирония самого Онегина – какая уж тут «мечта», если Татьяна любила, значит, жаждала Онегина, но эта жажда осталась неудовлетворенной из-за ее собственного упрямства? Но есть и другой ракурс, он появляется с учетом анализа Белинского: ты уязвлена «тем» моим отказом, теперь мне отомстила, «исполнив» таким образом «святую» свою мечту…
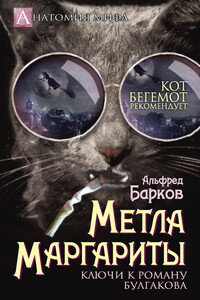



![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)