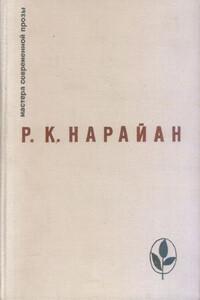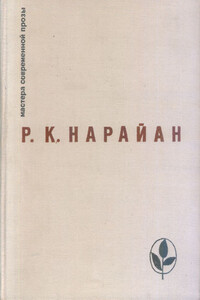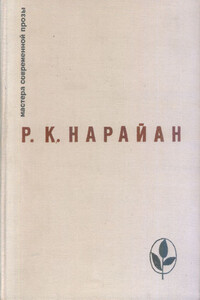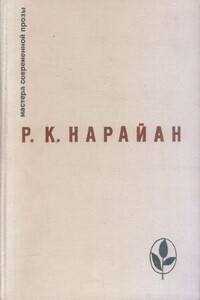— Ну а завтра по крайней мере вы сможете сыграть эту сцену?
— Ну конечно, сэр, — сказал Гопал с огромным облегчением. — Завтра я сделаю все, что вы мне прикажете.
Но тут ассистент с портфелем выскочил вперед и закричал:
— Эту сцену нужно отснять сегодня. Завтра нас уже выставят из этого павильона. Он нужен другой группе, тут будет дворец. Они ждут не дождутся — только мы кончим эту сцену, сразу же начнут разбирать декорацию. Они и так уж ворчат, что мы их задерживаем, у них график нарушается!
«И этот сопляк с портфелем держит в руках мою жизнь! Он ни за что не даст отсрочить казнь».
Режиссер отступил в тень, где стояли рабочие и осветители. Он что-то сказал им вполголоса, и они разошлись по местам. Потом он двинулся на Гопала с видом человека, который взвесил все обстоятельства и принял решение. Гопал смотрел, как он приближается, и думал, что ему не хватает только черного плаща и петли в руке. Гопал понял, что обречен. Суд произнес смертный приговор. Режиссер еще и рта не раскрыл, а Гопал уже сказал:
— Ладно, я умру, сэр.
Дали полный свет. Камера была готова к съемке. Режиссер заорал: «Начали!» Гопал уронил телефонную трубку. Его голова упала назад и слегка откинулась в сторону. Десятки людей с удовлетворением смотрели, как он умирает. Режиссер еще не крикнул «стоп», и Гопал успел сделать еще кое-что, надеясь, что никто не обратит внимания: хотя ему полагалось уже быть покойником, он вдруг слегка качнул головой, приоткрыл правый глаз и подмигнул прямо в объектив — теперь-то его уже не коснется беда, хоть ему и навязали сегодня эту зловещую роль.
Самбу потребовал:
— Дай мне четыре аны, завтра пойду смотреть фильм.
Его мать пришла в ужас. Желание мальчика было ей непонятно. Ее-то мысль о прибытии этой картины уже полгода держала в страхе. Как люди могут смотреть его на экране, зная, что его нет в живых? Сперва она смутно надеялась, что из уважения к ее чувствам картину вообще не выпустят. А когда по улице прошла процессия с оркестром и барабанами и рослые юноши пронесли рекламные плакаты и огромные многокрасочные портреты ее мужа, она решила на время уехать из города; но осуществить это отчаянное решение оказалось не просто. Теперь картину привезли. По шесть часов в день, не меньше, ее муж будет говорить, двигаться и петь в кинотеатре за три квартала от ее дома.
Самбу радовался так, словно его отец воскрес из мертвых.
— Мама, а ты разве не пойдешь смотреть кино?
— Нет.
— Ну мама, ну пожалуйста, пойдем.
Она попробовала объяснить мальчику, что для нее смотреть этот фильм совершенно невозможно. Но у него была своя беспощадная логика.
— Почему невозможно? Ты ведь каждый день смотришь его снимки, даже тот большой портрет на стене?
— Да, но снимки не разговаривают, не двигаются, не поют.
— А тебе они, значит, нравятся больше, чем картина, где он живой?
Весь следующий день мальчик был сам не свой от волнения. В школе, как только учитель отворачивался, он наклонялся к соседу и шептал:
— Моему отцу заплатили за этот фильм десять тысяч рупий. Сегодня вечером пойду смотреть. А ты пойдешь?
— Что, смотреть «Кумари»? — презрительно отозвался тот. Он терпеть не мог тамильские фильмы. — И близко не подойду.
— Этот фильм не такой, как другие тамильские ленты. Отец нам каждый вечер читал сценарий. Ужасно интересный. Он его сам написал от первой до последней строчки. Ему заплатили десять тысяч рупий за сценарий и за исполнение роли. Если хочешь, пойдем вместе.
— Не пойду я смотреть тамильский фильм.
— Это не обычный тамильский фильм. Он не хуже любого английского.
Но товарищ Самбу стоял на своем. Пришлось Самбу идти одному. Картина эта была попыткой ввести в тамильскую кинематографию новый стиль — современная тема, минимум музыки. То была история Кумари, девушки, которая отказалась выйти замуж четырнадцати лет, захотела учиться в университете и сама зарабатывать на жизнь, и за это суровый отец (отец Самбу) сначала отрекается от нее, но в конце концов прощает.
Самбу уселся в ряду, где места были по четыре аны, и с нетерпением ждал начала. Уже полгода он не видел отца и очень по нему соскучился.