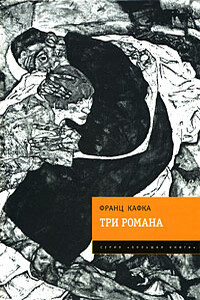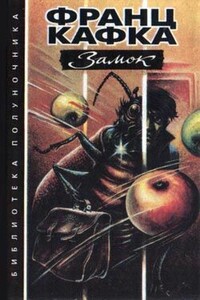— Это хорошее обоснование, — сказал К., повторявший для себя вполголоса отдельные места из объяснения священника. — Это хорошее обоснование, и я теперь тоже думаю, что страж был обманут. Но я не отказываюсь и от моего прежнего мнения, потому что они оба частично совпадают. Трезво ли смотрит страж, или он обманывается, это ничего не решает. Я-то говорил о том, что обманут человек; если страж смотрит на вещи трезво, то в этом можно усомниться, но если страж обманывается, то его самообман неизбежно должен перейти и на человека. Страж в этом случае если и не лжив, то настолько наивен, что его следовало бы немедленно выгнать со службы. Ты ведь должен учесть, что самообман, в котором пребывает страж, ничем ему не вредит, но зато в тысячу раз сильнее вредит человеку.
— Здесь ты вступаешь в конфликт с противоположным мнением, — сказал священник. — А именно, многие говорят, что эта история никому не дает права судить о страже. Каким бы он нам ни казался, но он все-таки слуга Закона и, таким образом, от человеческого суда ускользает. А тогда уже нельзя и считать, что этот страж стоит ниже человека. Иметь служебную связь даже только со входом в Закон значит несравненно больше, чем жить свободным в свободном мире. Человек еще только приходит к Закону, а страж — уже там. Он призван на службу Законом, и сомневаться в его соответствии этому высокому призванию значило бы сомневаться в Законе.
— С этим мнением я не согласен, — сказал, покачав головой, К., — потому что, если к нему присоединиться, тогда нужно все, что говорит страж, принимать за истину. Но ты же сам подробно обосновал, что это невозможно.
— Нет, — сказал священник, — не нужно все принимать за истину, нужно только принимать это как необходимость.
— Неутешительное мнение, — сказал К. — Ложь становится основой миропорядка.[19]
К. произнес это как заключение, но это не был его окончательный приговор. Он был слишком утомлен, чтобы суметь охватить все выводы из этой истории, к тому же он сталкивался здесь с непривычными ходами мысли, с какими-то ирреальными вещами, больше подходившими для обсуждения в обществе судейских чиновников, чем здесь. Простая история превращалась во что-то бесформенное, хотелось стряхнуть ее с себя, и священник, проявив тут большой такт, стерпел это и принял высказывание К. молча, хотя оно наверняка не совпадало с его собственным мнением.
Они еще некоторое время шли молча, К. держался поближе к священнику, не ощущая, где находится. Лампа в его руке давно уже погасла. Серебряная статуя какого-то святого один раз блеснула прямо перед ним — именно блеском серебра — и тут же вновь растворилась в темноте. Чтобы не оставаться целиком зависимым от священника, К. спросил его:
— Мы сейчас не вблизи главного входа?
— Нет, — сказал священник, — мы сейчас вдали от него. Ты уже хочешь уходить?
Хотя именно сейчас К. об этом не думал, он сразу же сказал:
— Конечно, мне пора уходить. Я прокурист одного банка, меня ждут, я пришел сюда, только чтобы показать собор иностранному контрагенту.
— Что ж, — сказал священник и протянул К. руку, — тогда иди.
— Но один в темноте я не смогу сориентироваться, — сказал К.
— Иди налево, пока не упрешься в стену, — сказал священник, — потом вперед по стенке, не отрываясь от нее, и ты найдешь выход.
Священник отдалился всего на несколько шагов, но К. уже очень громко закричал:
— Пожалуйста, подожди еще.
— Я жду, — сказал священник.
— Тебе больше ничего от меня не нужно? — спросил К.
— Нет, — сказал священник.
— Ты раньше так по-дружески говорил со мной, — сказал К., — и все мне объяснял, а теперь отпускаешь меня, как будто я для тебя пустое место.
— Тебе же пора уходить, — сказал священник.
— Ну да, — сказал К., — ты ведь должен понять меня.
— Сначала ты должен понять, кто я, — сказал священник.
— Ты тюремный капеллан, — сказал К. и подошел ближе к священнику; его немедленное возвращение в банк не было так необходимо, как он это представлял, он вполне еще мог побыть здесь.
— Следовательно, я принадлежу к суду, — сказал священник. — Так почему мне должно быть что-то от тебя нужно? Суду от тебя ничего не нужно. Он принимает тебя, когда ты приходишь, и он отпускает тебя, когда ты уходишь.