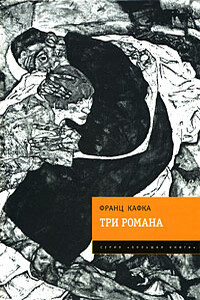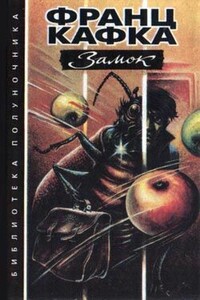Оставим мистику Кафки, этого «Нострадамуса XX века», веку грядущему и зададимся вопросом: в чем, собственно, его магия, в чем ее, так сказать, «материальная основа»? Отчасти в том, на что указал в своих блестящих «Заметках о Кафке» Теодор Адорно, — в эффекте непрерывного déjà vu, в пробуждении «ложной памяти». Это — поразительное свойство текстов Кафки: мы все это словно бы уже знаем, и механизм воздействия ускользает. Мы воспринимаем его тексты, как ультрафиолетовые лучи, — не осознавая, как мы это делаем. Мы можем лишь смутно ощущать, как подбором ускользающих слов, интонацией, искренностью, прячущейся за невозмутимо нейтральным изложением, улыбкой, проступающей сквозь эту невозмутимость, и еще какой-то прикосновенностью к спрятанному в нас он передает то, что не имеет названия, потому что это, как имя мифического героя, нельзя называть: назовешь — уплывет. Камю пишет: «Секрет Кафки в… фундаментальной двусмысленности. Он все время балансирует между естественным и необычайным, личным и универсальным, трагическим и повседневным, абсурдом и логикой. Эти колебания проходят сквозь все его произведения и придают им звучание и значимость».[135] Но почему? в чем основа этого звучания и этой значимости? Или его колебания, его двусмысленность — просто формальный прием, некое «остранение», нечто сродни известной актерской уловке: «…если не знаешь, как играть, играй странно»? Но тогда должно было появиться много равных ему писателей, ведь формальные приемы поддаются воспроизведению, а подражателей Кафке несть числа. Не появилось ни одного. С другой стороны, если его неоднозначность — искусственный прием, тогда в записях, сделанных для себя, в дневнике, он должен был бы писать иначе, проще, яснее. Этого нет. Вот как характеризует его «приватный стиль» Жорж Батай: «Когда Кафка решал четко выразить свою мысль, он всегда осуществлял задуманное (в своем дневнике или просто на страницах лирических отступлений), но в каждом слове оказывался тайник (он возводил опасные сооружения, где слова не подчинялись логическому порядку, а налезали одно на другое, будто хотели удивить и запутать, будто они были адресованы самому автору, казалось, не устающему постоянно переходить от удивления к заблуждению)».[136] В чем же здесь дело? Разумеется, дело во внутреннем устройстве душевного аппарата Кафки, в том, на что он был настроен и что он был способен выразить. Все дело в предмете описания. Кафка пишет то, что нельзя, но очень хочется прочесть: он передает в словах то, для чего в языке нет слов, он переводит в текст взгляды, интонации, неосознанные намерения и неоформившиеся душевные движения. Но все это — область несформулированного, неопределенного, и отнюдь не по формальным причинам, а именно в силу этого своеобразного «соотношения неопределенности»: чем глубже изображаемое, тем менее определенное выражение оно допускает, — возникают двусмысленности, колебания, неустойчивая зыбкость связей, утративших жесткий причинно-следственный характер; так возникают парадоксы, расщепления простых, кажущихся элементарными объяснений и мотивов, их отрицания и перетолкования — достаточно вспомнить толкования притчи о Законе, — а естественной материальной средой, «носителем», формой для выражения этого ускользающего содержания служат ситуации реальной или возможной неопределенности, именно поэтому столь характерные для произведений Кафки вообще. И поэтому в тексте романа так много условных форм, так часто возникают эти внешне манерные «словно», «как будто», «как если бы», — это не манера, это душа. Поэтому и слова у Кафки настолько часто означают не то, что значат, и говорят не то, что сказано, что кажется, будто это просто вошло у них в привычку. И уже не удивляешься их намеренному озорству, когда описания мест коллективного пользования превращаются в описания причинных мест, архитектурно-планировочные подробности оборачиваются анатомическими, а ответом на вопрос «как пройти?» становится наставление на путь истинный, истинность которого внушает сомнения.
Такие изменчивые конструкции требуют соответствующего строительного материала — и в тексте возникают многозначные слова, порождающие раздвоение смысла. (Один броский пример: орудие наказания охранников в главе «Каратель» обозначено словом Rute, a Rute — это и «прут, розга», и «мужской половой орган».) К этому же ряду выразительных средств относятся и отдельные «говорящие фамилии». Кроме того, одни и те же значимые слова возникают в романе в разных частях текста и в разных контекстах, нечувствительно связывая их. Так, «непоколебимо» сидящими цилиндрами на головах палачей начинается последняя глава и «непоколебимой» логикой она заканчивается, а «неизменный» вой, который звучит в судебных канцеляриях, оказывается таким же «неизменным» и в банке. В одних случаях смысл возникающих связей очевиден, в других он не столь прозрачен, но совершенно ясно, что эти переклички везде неслучайны; экономия классического текста не терпит «праздношатающихся» слов. (Неоднозначность возникает у Кафки даже там, где ее, возможно, и не должно было быть. Вспомните, как зовут дядю героя. В начале шестой главы он появляется как «дядя Карл», но чуть позже представляется адвокату уже как Альберт. Это можно объяснить «техническими причинами»: в незавершенных вещах такие расхождения встречаются, достаточно вспомнить «Неточку Незванову» Достоевского. Это можно объяснить и рационально: у дяди могло быть двойное имя, для племянника он Карл, а для старого друга и соученика — Альберт. Но это не так важно, существеннее здесь момент неопределенности, колебаний, выбора, потому что именно это приводит к многозначности, проявляющейся даже в таких забавных деталях.)