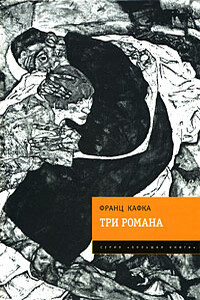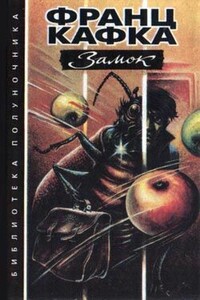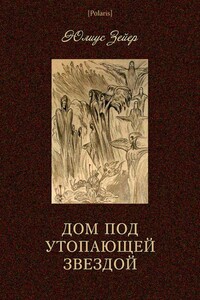не мог бы описать его точнее, чем название одной американской кинокомедии: «Shopworn angel».
[110] Когда в интерьерах человеческого жилья поселяется беда, убежища детства — нежилые углы, лестничные площадки — становятся убежищами надежды. Воскрешение из мертвых должно было бы происходить на автомобильном кладбище. Невиновность ненужного создает контрапункт к паразитическому. «Праздность — мать всех пороков и дочь всех добродетелей». Творчество Кафки свидетельствует: в этом запутавшемся мире все позитивное, всякий жизненный вклад и даже — почти что можно так подумать — самая работа по воссозданию жизни лишь увеличивает путаницу. «Создавать негативное — эта задача еще возложена на нас; позитивное нам уже дано».
[111] Средством излечения от полубессмысленной, непроживаемой жизни могла бы стать лишь полная ее бессмысленность. Так происходит братание Кафки со смертью. Творение получает преимущество перед живым. Самость — глубиннейший пласт залегания мифа — разбивается вдребезги, отброшенная как иллюзия голой природы. «Художник подождал, пока К. успокоится, и затем все-таки решился, поскольку не видел иного выхода, продолжить надпись. Первый же нанесенный им маленький штрих был для К. избавлением, хотя и было видно, что художник наносил его, с трудом преодолевая отвращение; не столь красив был уже и шрифт, в особенности казалось, что маловато золота: штрих вытягивался блеклый и неуверенный, только буква становилась уже очень большой. Это была буква „J“, и она была уже почти закончена, но тут художник яростно топнул ногой по могильному холмику, так что брызгами взлетела в воздух земля. Наконец К. его понял, просить у него прощения времени уже не было; обеими руками, всеми пальцами он рыл землю, которая почти не оказывала сопротивления; все, казалось, было подготовлено, тонкая земляная корка была сверху только для видимости, под ней сразу открылись обрывистые стенки большой дыры, и К., опрокинутый на спину каким-то мягким дуновением, канул в нее. Но в то время как он — все еще вытягивая шею — уже погружался вниз, в непроглядную глубину, наверху его чудовищно изукрашенное имя мчалось по камню.
[112] Восхищенный этой картиной, он проснулся». Не душа живая, но одно лишь имя, проступающее сквозь естественную смерть, расписывается в получении бессмертия.
Роман «Процесс» Кафка писал в период с августа 1914 по январь 1915 года. Непосредственным толчком к началу работы послужил, видимо, разрыв его первой помолвки с Фелицей Бауэр и учиненный над ним в связи с этим «суд» друзей и родных. Берлинский отель «Асканийский двор», в котором произошло это знаменательное событие, Кафка называет в дневнике «судебным двором». Вообще, дневниковые записи и письма к невесте дают основания считать, что отношения с Фелицей связываются в сознании Кафки с представлениями о наказании и подчинении. Элиас Канетти в своем романе-эссе «Другой процесс. Франц Кафка в письмах к Фелице» пишет: «Процесс, который в течение двух лет развивался в переписке между ним и Фелицей, стал превращаться в нечто другое — в тот „Процесс“, который известен теперь каждому. Да, это тот же самый процесс, Кафка хорошо освоил его механику, и пусть он вобрал в себя неизмеримо больше, чем можно обнаружить в одних только письмах, — это не должно обмануть нас относительно идентичности обоих процессов. …Официальная помолвка на квартире у Бауэров 1 июня 1914 года и, полтора месяца спустя, 12 июля, „суд“ в „Асканийском подворье“… Остается доказать, что эмоциональное содержание обоих событий самым непосредственным образом вошло в роман „Процесс“, писать который Кафка начал в августе. Помолвка стала арестом первой главы, „суд“ — сценой казни в последней».[113] Доказательства Канетти вполне убедительны; не подвергая их сомнению, отметим, однако, указание ряда исследователей на то, что Кафка испытывал чувство вины не только по отношению к невольно обманутой им девушке, но и по отношению к собственному призванию писателя: для него попытка устроить свою личную жизнь сродни предательству дела жизни (тема предательства в разных вариациях постоянно возникает в романе).