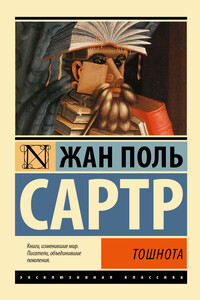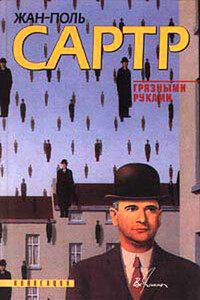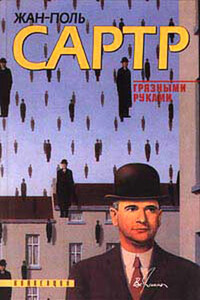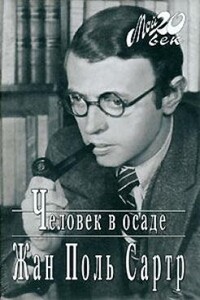. Он пытается, сохраняя верность основным положениям марксизма, найти посредствующие звенья, позволяющие воссоздать (engendrer) конкретное единичное, жизнь, реальную, относящуюся к определенному времени борьбу, личность, исходя из общих противоречий между производительными силами и производственными отношениями. Современный марксизм показывает, например, что реализм Флобера и социально-политическое развитие мелкой буржуазии в период Второй империи находятся в отношении взаимной символизации. Но он никогда не показывает генезис этой взаимосвязи перспективы. Мы не узнаём, почему Флобер предпочел литературу всему остальному, почему он жил анахоретом, почему он написал свои книги, а не книги Дюранти или Гонкуров. Марксизм соотносит, но больше уже не побуждает что-либо открывать. Он предоставляет другим дисциплинам без всяких принципов устанавливать точные обстоятельства жизни и личности, а затем демонстрирует, что его схемы получили еще одно подтверждение: раз веши таковы, каковы они есть, раз классовая борьба приняла ту или иную форму, Флобер, коль скоро он принадлежал к буржуазии, должен был жить так, как жил, и писать то, что писал. Но при этом обходится молчанием как раз значение слов «принадлежать к буржуазии». Ведь не земельная рента и не сугубо интеллектуальная природа его труда делают из Флобера буржуа. Он принадлежит к буржуазии потому, что родился в этой среде, иными словами потому, что он появился на свет в уже буржуазной семье
[23], глава которой, руанский хирург, был захвачен восходящим движением своего класса. И если он рассуждает, как буржуа, если он ощущает себя буржуа, то потому, что его сделали таким в то время, когда он еще не способен был понять смысл поступков и ролей, которые ему навязывали. Как и всякая семья, эта семья была частной: мать Гюстава происходила частично из дворян, отец был сыном сельского ветеринара, старший брат, по видимости более одаренный, с ранних лет стал для него объектом ненависти. Таким образом, именно в частности конкретной истории, через противоречия, присущие этой семье, Гюстав Флобер получил смутное представление о своем классе. Случайности не существует, или, по крайней мере, она не играет той роли, какую ей приписывают: ребенок становится таким, а не другим потому, что он переживает всеобщее как частное. Флобер в частном пережил столкновение между религиозными ритуалами монархического строя, стремившегося возродиться, и безверием своего отца, мелкобуржуазного интеллигента, сына французской революции. Столкновение это в общем выражало борьбу старых земельных собственников против приобретателей национальных имуществ и промышленной буржуазии. Это противоречие (впрочем, ставшее в период Реставрации менее ощутимым вследствие временного равновесия сил) Флобер пережил в себе самом так, словно оно существовало для него одного: его тоска по дворянству и особенно по вере всегда умерялась отцовским духом анализа. И впоследствии в нем жил подавляющий его отец, который даже после смерти продолжал ниспровергать Бога, своего главного противника, и низводить порывы сына до настроений, всецело зависящих от телесного состояния. Но все это маленький Флобер пережил во мраке – иными словами, неосознанно, в смятении, в попытках бегства, в непонимании, пережил через свое материальное положение ребенка из буржуазной семьи, обеспеченного хорошим питанием и уходом, но слабого и отрешенного от мира. Именно ребенком Флобер пережил свое будущее положение через представлявшиеся ему на выбор профессии. Ненависть к старшему брату, блестящему студенту медицинского факультета, закрыла для него путь к наукам: он не хотел и не дерзал войти в «мелкобуржуазную» элиту. Оставалось право; считая это поприще низшим, он стал испытывать отвращение к своему собственному классу; и само это отвращение было одновременно обретением самосознания и окончательным отчуждением от мелкой буржуазии. Он пережил и мещанскую смерть, одиночество, сопутствующее нам от рождения, но пережил их через семейные структуры: сад, в котором он играл с сестрой, соседствовал с лабораторией, где анатомировал его отец; смерть, трупы, маленькая сестра, которой суждено было вскоре умереть, знания и безверие отца – все должно было соединиться в сложном и весьма своеобычном образе мыслей. В этой взрывоопасной смеси наивного сциентизма и религии без Бога – весь Флобер; преодолеть ее он пытается через увлечение формалистическим искусством. Нам удастся объяснить ее лишь при условии, если мы до конца осознаем, что все совершилось в детстве, т. е. в состоянии, существенно отличном от взрослого состояния: ведь именно детство формирует непреодолимые предубеждения, именно в детстве, испытывая на себе насилие дрессировки, в метаниях дрессируемого зверя человек впервые ощущает свою принадлежность к определенной среде как единичный факт. В наше время только психоанализ дает возможность основательно изучить поведение ребенка, который вслепую, на ощупь пытается, сам того не понимая, играть социальную роль, навязываемую ему взрослыми; только психоанализ показывает нам, задыхается ли он в этой роли, стремится ли избавиться от нее или же полностью ее усваивает. Только психоанализ позволяет обнаружить во взрослом всего человека, т. е. не только его нынешние определения, но и груз его прошлого. И было бы в корне неверно противопоставлять эту дисциплину диалектическому материализму. На Западе, конечно, нашлись дилетанты, которые построили «аналитические» теории общества и истории, действительно впадающие в идеализм. Сколько раз уже пытались подвергнуть психоанализу Робеспьера, не сознавая того, что противоречия в его поведении были обусловлены объективными противоречиями ситуации. И когда понимаешь, что термидорианская буржуазия, парализованная демократическим строем, фактически была вынуждена требовать военной диктатуры, досадно читать у психиатра, что Наполеон может быть объяснен через свое пораженческое поведение. Бельгийский социалист Де Ман пошел еще дальше: причину классовых конфликтов он усмотрел в «присущем пролетариату комплексе неполноценности». Марксизм же, ставший универсальным знанием, решил интегрировать психоанализ, предварительно свернув ему шею. Он превратил его в мертвое понятие, которому, разумеется, нашлось место в иссушенной системе: это идеализм в маске, перевоплощение фетишизма внутреннего мира. Но в обоих случаях метод сделали догматическим: философы психоанализа находят подтверждение своих взглядов у марксистских «схематизаторов», и наоборот. На самом деле диалектический материализм больше не может лишать себя особого посредствующего звена, позволяющего ему перейти от общих и абстрактных определений к тем или иным чертам конкретного индивидуума. У психоанализа нет принципов, нет теоретической базы – вполне закономерно, что он сопровождается, у Юнга и в некоторых работах Фрейда, совершенно безобидной мифологией. В действительности этот метод направлен прежде всего на то, чтобы установить, каким образом ребенок переживает свои семейные отношения внутри данного общества. И это не значит, что психоанализ ставит под сомнение первенствующее значение социальных институтов. Как раз наоборот, его объект сам зависит от структуры такой-то отдельной семьи, а эта последняя является лишь определенной сингуляризацией семейной структуры, типичной для такого-то класса в таких-то условиях; поэтому монографии по психоанализу – если бы они всегда были возможны – сами по себе показывали бы эволюцию французской семьи между XVIII и XX вв., которая, в свою очередь, в особой форме выражает общую эволюцию производственных отношений.