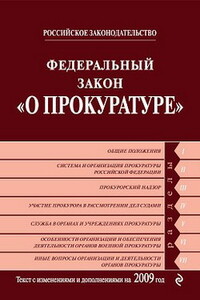В рамках рассматриваемого понятия представляется необходимым выделить также пробелы настоящие и мнимые. Настоящий пробел — это пробел, имеющий место в действительности, когда действующее уголовное законодательство не дает решения данного конкретного случая. Иными словами, точная оценка того или иного явления, входящего в сферу необходимого уголовно-правового регулирования, становится невозможной. Настоящий пробел в уголовном праве — это констатация отсутствия (неполноты) нормы в системе действующих уголовно-правовых норм.
Конечно, на признание пробела «настоящим» существенное влияние оказывает субъективная составляющая, и оценка деяния как преступного (о чем будет сказано ниже) может расходиться с его общественной опасностью как категорией объективной. Впрочем, есть случаи настолько очевидные, что сомнений в наличии пробела не возникает. Так, предусмотрев в ч. 1 ст. 80 УК возможность замены более мягким видом наказания оставшейся части не только лишения свободы, но также и ограничения свободы и содержания в дисциплинарной воинской части, законодатель оставил без ответа вопрос, по отбытии какой именно части назначенного наказания ограничение свободы или содержание в дисциплинарной воинской части могут быть заменены более мягким видом наказания. Для устранения этого пробела необходимо в ч. 2 ст. 80 УК слова: «к лишению свободы» заменить словами «наказания назначенного».
Пробелам настоящим следует противопоставить пробелы мнимые. Мнимый пробел — это пробел, созданный искусственно, надуманный. Такие пробелы, очевидно, не имеют ничего общего с проблемой полноты уголовно-правового регулирования. За время действия УК РФ Государственная Дума Российской Федерации рассматривала множество законопроектов с предложениями о дополнении УК РФ рядом статей, например: ст. 121.1 об ответственности за уклонение от лечения туберкулеза и ст. 121.2 за заведомое доставление другого лица в опасность заражения туберкулезом и заражение другого лица туберкулезом лицом, знавшим о наличии у него этой болезни; ст. 131.1 об уголовной ответственности за мужеложство; ст. 233.1 об уголовной ответственности за незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ; ст. 274.1 об уголовной ответственности за массовую рассылку сообщений электросвязи и некоторые другие.
Что касается первых двух статей, то следует признать, что действительно существует опасность распространения туберкулеза. Но, во-первых, как справедливо отметил А.В. Наумов, причины заболевания данной болезнью лежат войной социальной плоскости. «Это — крайне низкий уровень жизни значительной части общества, вызванный неудачами экономических реформ, существование таких условий содержания в исправительных учреждениях и под стражей (в качестве меры пресечения), когда эти учреждения становятся едва ли не рассадниками данного заболевания»[120]. Во-вторых, УК РФ, как известно, декриминализировал заведомое поставление другого лица в опасность заражения венерическим заболеванием и уклонение от лечения венерической болезни. Надо полагать, что это сознательный шаг законодателя, а не сиюминутная конъюнктурная позиция. Но опасность распространения венерических заболеваний при этом ничуть не меньше (а может быть, и больше), чем туберкулеза.
Принятие ст. 233.1 также стало бы серьезным просчетом законодателя. Никто не отрицает наличие серьезной проблемы, связанной с резким увеличением потребления наркотиков в России. Но решать эту проблему уголовно-правовыми средствами — дело безнадежное. Угроза наказанием принесет больше вреда, чем пользы, так как люди, начавшие принимать наркотики, вместо того, чтобы обратиться за помощью к врачу, будут вынуждены скрываться. Больных надо лечить, а не наказывать. При этом никто не задумывается над вопросом, каким же образом будет организовано уголовно-исправительное и медицинское воздействие на «преступников», которых в стране, по экспертным оценкам, насчитывается несколько миллионов?
К тому же, следует согласиться с теми криминалистами, кто небезосновательно считает, что принятие данной нормы позволит правоохранительным органам создавать лишь видимость эффективного контроля над наркоманией. Поставщики, сбытчики «зелья» при этом не пострадают, зато показатели эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков резко улучшатся за счет привлечения к ответственности простых потребителей