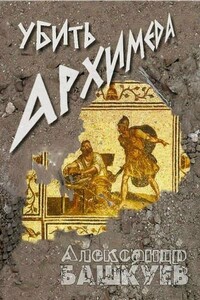Что делать? Гимн не закажешь в Европе, ибо там не знают русской мелодики, а своих еще нет! То, что случилось - Перст Божий.
Был у меня в гостях реббе из бухарской диаспоры. Я, как главный раввин Империи, часто встречаюсь с братьями из соседних держав. И вот на дружеских посиделках он запел странную, но в то же время - необычайно русскую песню с чужими словами. Я так и сел, а потом спрашиваю, - откуда сие?!
Реббе весьма изумился:
- "Это - "Величальная Хану Узбеку". По преданию ее сложили певцы самого Калиты в благодарность дяде за "Ярлык на Княжение Московское". У нас по сей день многие думают, что сие - гимн Москвы!"
И мы думали помочь державе, не чуя половины ее корней! Мы пытались уйти от польского корня, не зная корня татарского!
Для меня откровением стало, что Иван Калита - праправнук самого Чингисхана. (Мать его - дочь хана Берке, младшего брата и Наследника хана Батыя, - отсюда такая любовь и приязнь меж крохой Москвой и Великим Сараем.)
А мог ли праправнук Чингисхана взойти на престол под славянские гусли? Не верней ли вернуться к корням, - откуда все началось? Ведь Слово - Магия, а какая Магия заложена в Ордынских гимнах! И коль мы мечтаем о Великой Империи, зачем брать песни бессильной Польши? Не лучше ль припомнить гимны Великой Орды?
И я послал в Бухару за всеми сохраненными отрывками песен той поры и времен. Потом мои адъютанты написали слова на сию музыку и вскоре на очередном Малом Совете встали и спели ее.
Я не знал о том, что готовится, - ордынскую песнь так и не смогли переложить на европейские инструменты, а пятиметровые карнаи во дворец не внести! Но когда я впервые услышал:
"Боже, Царя храни!
Славный, Державный,
Царь Православный,
Царствуй на Славу,
На Славу нам!..",
сердце мое не вытерпело. Я плакал, как ребенок, не стыдясь моих слез. Что-то сказало мне, что это та самая Песня, с коей пойдут в огонь и в воду, на смерть и бессмертие, ибо тут Душа Богу мольбу шлет...
Теперь капля дегтя. В очередной приезд в Москву я встретил Герцена. С улицы духовые оркестры и народные хоры распевали "Боже, Царя храни!" и все вокруг сильно радовались, будто вспомнили что-то весьма родное и близкое.
И только Герцен чему-то хмурился и сидел хуже тучи. Я спросил его, неужто ему не по сердцу общее ликование? На что тот сказал:
- "Я верю, что на свете нет места случайностям. И я верю, что музыка могущественнейшая из Магий.
Я верю, что именно польским гимнам мы обязаны вечной борьбой партий, частыми мятежами, пустой казной, да воровской экономикой. Тут переход на ордынские образцы можно только приветствовать.
Но не думали ль вы над тем, что отныне у нас больше Порядку, больше жандармов, солдат и тюрем, толще казна и пышней двор... А еще мы станем тем самым ужасом для прочей Вселенной, что и - Орда.
А жизнь в сей Орде вновь станет ничем, как и в древние времена. Не в том смысле, что будут убивать прямо на улице. В том смысле, что ночью в любую юрту (то бишь - дворец) смогут стучать и брать по приказу хана. Иль ханши... Иль еще какого ханыги...
Ведь музыка - не просто колебанье эфира. Это - Мольба о том-то и том-то. С польским гимном мы были веселей, да чего греха таить - легче. В гимне ж ордынском мне чудятся гудки тысяч заводов, залпы тысяч орудий и чугунная поступь немереных армий. Вынесем ли такую тяжесть?! Золотая Орда рухнула под массой своих же армий, надолго ль хватит нашей Империи?"
То был жаркий вечер в уютном московском дворе. Из распахнутых настежь окон несло с бульвара звуки музыки, топящей тебя целиком. И под сию музыку хотелось зарыдать, схватить верный штуцер и маршировать куда скажут, чтоб и они услыхали ее и прониклись. А потом в меня струйкой заполз холодок. А что если правда, - приняв ордынский гимн, мы сами стали - немножко Ордой?!
Для меня, генерала до мозга костей - нет выбора, - жить ли мне в воровском бардаке, где всякая мразь имеет свой норов, иль в единой Империи с непотребными военными тратами. Из двух зол я выбрал меньшее. Ибо других корней нет! А от осины не родятся апельсины...
Но иногда, ночами, когда я отдаю приказ на аресты воров, насильников, содомитов, якобинцев и прочей нечисти, за бумажкой я вижу печаль Герцена, и мне - страшно.