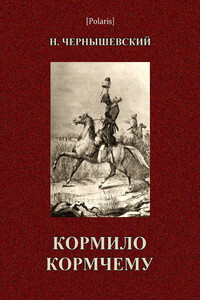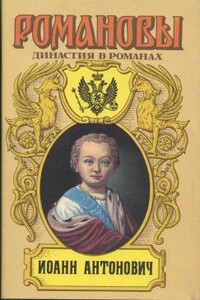IV
Видите ли что, опять-таки: ну, пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу — на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какою силой любви они мне ответят, Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, всё время, не оскорбить такого как я и ни разу не возбудить в таком как я чувство ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним? Они были резвы и веселы как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостию, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга как дети; это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проницали сердца. Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во всё их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я всё это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез… Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым проникнутым любовью взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них.