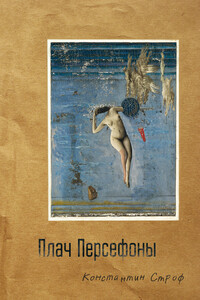Богдан, патриот Галичины, считал, следом за авторитетными историками и писателями, что именно там, на западе, сохранилась настоящая мова и Вкраина, потому что перед Карпатами восемь веков назад остановилось татарское нашествие, да и советская власть, что ни говори, гораздо меньше топталась на западных территориях и не смогла кислотой русификации разъесть природное естество галичан.
— Но, Олежа, ты земляков не идеализируй. Природа человеческая одинакова, от каждого лично зависит, быть настоящим или изображать из себя патриота и честняка. Таких мастеров мимикрии и камуфляжа, как некоторые мои земляки, поискать надо. Натерпелись люди такого, что осторожны в общении и со своими, и с чужими, ваша восточная открытость представляется нам такой же странной, как вам — наша герметичность. И по миру так же ведется: гасконцы — горячие, швабы — скряги, но Франция — едина, и Германия — тоже. Ставить между украинцами шлагбаумы — глупая затея.
Богдан говорил эти вещи задолго до того, как политический сказ напал на людей, чьи фамилии и фото на страницах газет, чьи голоса по радио и рожи по телевидению, окаймленные названиями государственных должностей и сакральными словами «народный депутат» не стали обозначать и определять глубину раздора, причиной которого стала жажда власти.
Олег бывал у Богдана, театр, где он лицедействовал, располагался не так далеко от Львова. Богдану Крошке повезло больше: работал в знаковом львовском театре, где служил его родной стрий[1], дядя.
Те давние их разговоры, в целом не свойственные молодым людям, стремящимся к самоутверждению в профессии, естественное самоуважение которых еще не позволяет идти на компромиссы, в кои-то веки имели продолжение. Когда Олег рассказал Богдану о своей политической ангажированности, товарищ только свистнул.
— Держись от этого дерьма подальше, Олежа. Я хоть и не специалист, но кое-что из нашей истории запомнил. Все повторяется: грызня после Хмельницкого, война гетманов, гетманчуков и писарей, разрушение, раздор. Не суйся в эту тину. Они даже посинели, доказывая, кто больше любит Украину, а на самом деле подрезают ей жилы.
Молчать дальше было просто невозможно, и Олег тронул плечо Шлыка.
— Давайте не будем об… этом. Что касается меня, Николай Михайлович, то вы ошибаетесь. Не был я инертным, по уши погряз в агитации и пропаганде новой, сияющей жизни. Только оказалось, что все лозунги, как и в ваше время, фальшивые, а лица, их провозглашающие, обычные торговцы в храме.
Шлык наполнил рюмки.
— Вот ты Библию вспомнил. Читал?
— Пытался. Образование не то, чтобы все понять…
Прогон обычно шел без грима: не было смысла дважды нагружать актеров и гримеров, вечером их ждал настоящий аврал. Натянув трико и поместив стопы в несколько узковатые ботинки с острыми носами, на которые бутафоры наклеили разного хлама (им казалось, что именно такая обувь была в эпоху, которую выбрал для пьесы Шекспир), Олег набросил на голый торс рубашку с воланами и накладной манишкой, пришитой прямо под воротник-жабо, тоже самодельного производства.
Шлык опаздывал, на спинке его старого кресла, давно списанного из кадастра театральной мебели и им самим отремонтированного, лежал костюм Шута. Этот персонаж впервые появлялся во втором акте — потому-то Николай Михайлович не спешил.
Старенькие двери гримерки Олег не закрывал на прикрепленный невесть когда железный со следами ржавчины крючок: проходя на свою половину, Нина раньше на какие-то несколько секунд заглядывала в их со Шлыком «каюты», чтобы или просто улыбнуться Гардеману, или подать известные только им знаки, означающие возможность или невозможность встречи на нейтральной территории или у нее дома, когда муж находился то ли на стрельбах, то ли в милитарном своем министерстве в Киеве. Давно этих встреч не было. Вчера Нина исчезла после спектакля, словом не обмолвившись о возможной встрече. В квартире окна не светились — Олег наведался к ее дому, хотя было уже совсем поздно. Обозвав себя провинциальным Ромео, Олег пропустил последнюю маршрутку и добирался домой попуткой.
Почти год длился их тайный роман, и до сих пор им обоим казалось, что многоокий, как Аргус, театр до сих пор ничего не знает. В конце концов, им повезло, так оно и было.