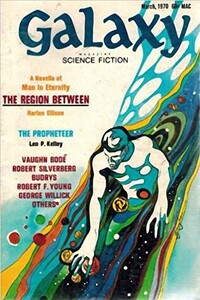Вдруг в мои печальные самосозерцания влезла чужеродная грубая длань.
– А вот и он, невзрачный воздыхатель отечественных неземных монашек! – крикнула надо мной, пассуя руками, разряженная в черные кружевные кринолины и пелерины плотная статная особа в темных перчатках и с печальным оскалом черного горностая на плече.
– Вот он, беспардонный любитель молоденькой клубнички монастырского сада, взбитой со сливками по случаю дней печали и радости, – надо мной уперла руки в бока женщина темного света Аделаида, недостойная мать своей дочери.
– Не такой уж молоденькой, – зло отплюнулся я. – А вы тут каким боком. Притащились.
– Не рад, не рад. Я тут двумя боками, – съязвила дама, похоже уже сьевшая стакан коньяка и рюмку французских духов. – Хожу всегда на церемонии по значительным краевым людям. Женщине во втором цветении надо держать перчатку на пульсе. Кстати, ожидается прибытие значительных лиц. А ты, Петр-Павел, не изображай истукана с острова Пасхи, мог бы матери подруги честь оказать, хотя бы жопу свою приподнял над печальными цветами.
От неожиданности экспромта я встал и замер столбом. Тут, и правда, на узкую между стояками успокоения дорожку выкатил роскошный черный представительский автомобиль, из него в сопровождении нескольких шавок, украшенных букетами розовых шипов, выбрался Председатель Избирательного Сената Пращуров. Вот уж кого не ждали лицезреть на этой скромной панихиде. Пращуров увидел меня, узнал и барственно махнул рукой. Я поплелся в гущу прощающихся.
– Ты, любитель ягод, не думай, Антонида меня силой отговаривала, так я вырвалась. Сердце в кулаке не удержишь, – крикнула мне в спину нарядная женщина.
Пращуров выхватил микрофон у какого-то старца из Общества каторжан совести, шавка поднесла ему раскладную лесенку-трибунку, и главный Избиратель края взобрался на нее.
– Люди, я с вами в этот зазорный час. Никого из другого. Наш НАШЛИД не передал тут ничего из сожалений… соболезней. Он всем нам ровня. Так же скорбится. Ко всем забота и глаз. Краевой вождь говорит – делиться надо. Вот и делимся с землицей… Лучшие люди с буквы. Ушел дорогой Дормидон Аникыч… не уходи. Не возвернется делиться. И радость и печать. Слеза каплет у какого ни есть… Не могу. Мы руководящая струя горючим… горюем всюду с вами. Тут. С вами, кого, может, давно нет. Был человек-махина Аким Додоныч, знатный труженник пашней, конбайнер урожаев…что?… аптекой ведовал. Души от тела раскрепщал. Спасибо и на то. Скажу словом поэта, тоже уже который окочурен землей в букете – сонете вечной славой:
– Спи достойно на чеку Нашего достатка С пиететами к нему Руководство кратко.
Так вот, если кратко. Объявляю, указом за вчера сегодня объявляю вручен посмертно юбиляру Знак краевой славы Семьнадцатой степени. С соответствующими последствиями. Позволю вручить вдове.
Пращуров повозился у груди ничего не понимающей Доры и опять схватил микрофон.
– Сегодня день очень важно. Теперь всем слушать. Завтра день Олимпиады инвалидов. Оно, конечно. Делиться спортом надо. Завтра всем праздник – нынче печаль. А я скажу! Я один готов в шею всю демократию держать. Мне, может, посекут головушку и спустят с пирамиды поникшим свинксом. И чего, молчать?
Мы, Пращуровы, каждый день с народом, то пьем… поем, то воем… воюем. Рука об ногу. Из его, народа, вылезли, придет вечер – туда и скатим, схойдем. За гроб жизни. А человек Дормидон всегда остается. Бей меня, не люби простого члена Сената, не могу держать внутри. Голову люблю и целую, а правда дороже. Правдой делиться надо. Кого хороните, знаете? – крикнул впадающий в ожесточенный экстаз и отчаянно жестикулирующий Пращуров. – Не знаете, как аборагены. Это хороните… схораниваете последнего человека. По святкам… по сведениям из источника… вечного… Большой друг… есть информационное поле. Последний гражданин края. Все! Нулевка, – толпа замерла, траурная церемония заледенела. – Числился один гражданин с правом полного голоса, а глянь – никого и нет. Вот покус, удар по демокритии. Это и тут лежащий у нас в пакетике и есть любезный краю Товарищ.
Брат и Учитель Алим Дордоныч. Все, пусть меня теперь клюет воронье, как несчастный сыр в масле. Пусть глядят злобные очи завистников и палачей нашего демостроения и народомудствия… мудрости всехней масс. Ушел человечище, унес голос под землю сыру. Не достать. Но мы слышим живое слово бойца! Проснись инвалид, поставь рекорд Олимпиаде, протяни костыль другу, обойми женщину-одиночку, согрей ее слезы у корыт.