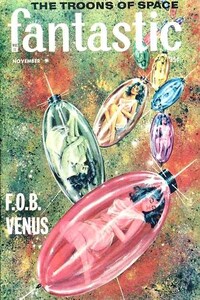Ровно за три метра до пресса я вывалился из многослойного мешка и, полежав на обоих боках, пока сердце вновь не заняло левую позицию, поднялся. И забегал вдоль транспортеров, изображая трудовой ажиотаж. Подошли двое охранников, синхронно спросили:
– А ты как здесь? Тебя же не ввели.
– Чего?! – возмутился я. – С утра трусь, собираю сброс. Парни, с голодухи хотите уморить. Бегаешь неделю, как угоревший, а все ПУК пустой. Вы чего?!
– Ладно, – протянул зомби, оглядываясь. – Пришли эти, командуют. А мы сами с усами. Пометим! – и щелкнул в устройство учета.
– Нюрка-то толстуха, где? – предъявил я растерянное лицо. – С утра сбился, ищу.
– А чего тебе Нюра? – подозрительно уставился на меня другой. – Ты что-ли ходишь прессы портишь?
– Обещала мне нос утереть, а то все время руки заняты. Работой, – шутканул я. – Да нет, я ее иногда по заду глажу, когда у ней настроение прет.
– Ха, – хохотнул охранник. – Ты давай теперь у себя зад гладь. Шутки скинь в сторону. У нас чрезвычайку ввели, стрелков. С запада получено с гуманитарным грузом. К прессам не подходи. Мы за тобой особый глаз положим. Так велено.
Оказалось, из семнадцати прессов два встали. Техники ничего не смыслят. Раньше, бывало, Нюра чинила, подойдет, задом прижмется, потом ухом. Где кувалдой саданет, где приговором, и прессы оживают. Иногда масла не жалела, в сапоги не сливала. Ливанет масла, куда никто не догадается – в старый, немецкой крупповской сборки компьютер времен до 33 года, и дело в шляпе. Прессы шуршат, бумагу и книги жуют, мнут, уплотняют и складируют знания. Для будущих выздоровевших поколений. А тут встали.
Я подошел к группке техников и начальству возле застывшего, как мамонт в мерзлоте, прибора. Все посмотрели на меня с безразличием, как на удавленника.
– Все одно, – крикнул я, – без Нюры не сладите. Срочно ее сюда, эти прессы – ее родня. Племяши. Она с них умеет спесь гнать. Спешите, а то, говорит, на штык брошусь.
– А ты где ее? – спросило начальство Музея. – У какого штыка?
– В жутких снах вижу. Немедля поднять. Сказала по телепатофону нашему умственно отсталому: Пашка, пускай удавятся, завтра все прессы становлю.
В этот день я почти не работал, берег силы, чуть шевеля ртом и ластами возле замирающих конвейеров, чтобы завтра искать своего друга Акима Дормидонтыча. И получать ответы на пока не заданные вопросы. И не зря берег. Когда я в первом часу ночи без сна валялся в своей берлоге на койке, думая сосчитать окрестные звезды, зевая на удачу и теребя затылком пушистую подушку с сокрытой в глубине книгой-инкунабулой, в фанерку моей входной двери кто-то тихо постучался.
* * *
И вдруг я понял, кто это. Поток стремительной радости, неясно откуда родившейся, сонм мчащихся нежным пчелиным роем мыслишек о скользком, вязком, душном и звенящем потек по конвейеру крови, транспортеру лимфы и нервным ветвящимся проводам моего тела. Я бросил взгляд на стопку сухого помета, высовывающегося из-за угла самостройной печурки, ошибочно натянул на трусы фуфайку и открыл дверь. Да, за фанеркой стояла маленькая Антонина и счастливо улыбалась.
– Извините, – сказала она, – я выбрала для Второй встречи нынешний день… Или нет, ночь. Очень уж медленно идут минуты, – добавила она, и щеки ее вспыхнули розовым пламенем так, как не загораются жаркие дрова настоящей березы в круге пылающих углей.
Я обнял ее за талию и внес, висящую на мне, в комнатенку.
– Осторожно, – шептала она. – Осторожно, обувь очень грязная… так долго шла… Конка не ходит…
На Антонине был темный балахон служки Училища при Общине Евгения и еще небольшие валенки. И, пожалуй, все. Я налил ей стакан горячего чая с сахаром и бросился совать в горло буржуйки куски жирного кизяка. Тепло потекло из жерла железного друга и обволокло нас, несчастных.
Что сказать здесь!? Пожалуй, это был последний счастливый день моей жизни – ночь, да день… да еще ночь, наверное. Время перемешалось с теплом, запахом коров и тонким ароматом девичьей кожи изумительной, божественной выделки, духом крепкого чая и ворчанием горячего ветра в пазухах ржавой выводной трубы.