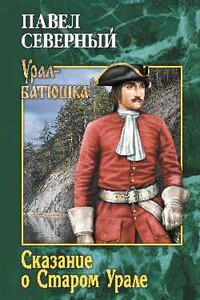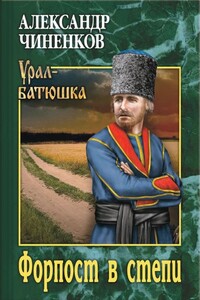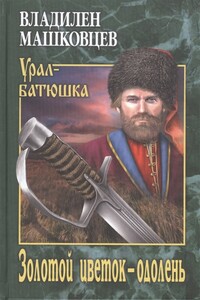– А я зашел навестить вас, давно не видал.
– Ох, давно, голубчик.
Старушка засуетилась со своим самоваром, разговаривая с гостем из-за перегородки.
– Вот уж сорочины скоро, как Катю мою застрелили, – заговорила Павла Ивановна, появляясь опять в комнате. – Панихиды по ней служу, да вот собираюсь как-нибудь летом съездить к ней на могилку поплакать… Как жива-то была, сердилась я на нее, а теперь вот жаль! Вспомнишь, и горько сделается, поплачешь. А все-таки я благодарю бога, что он не забыл ее: прибрал от сраму да от позору.
Привалова неприятно поразили эти слова.
– Вы очень строго судите свою дочь, – заметил он.
– Нельзя, голубчик, нельзя… Теперь вон у Бахаревых какое горе из-за моей Кати. А была бы жива, может, еще кому прибавила бы и не такую печаль. Виктор Васильич куда теперь? Ох-хо-хо. Разве этот вот Веревкин выправит его – не выправит… Марья Степановна и глазыньки все выплакала из-за деток-то! У меня одна была Катя – одно и горе мое, а погорюй-ка с каждым-то детищем…
– А Надежда Васильевна где теперь?
Павла Ивановна недоверчиво посмотрела на Привалова прищуренными глазами.
– А разве доктор-то, Борис-то Григорьич, ничего тебе не говорил?
– Я его не видал уже с месяц…
– Надежда Васильевна живет теперь в Узле, уж вторая неделя пошла. Да.
– Как в Узле?
– Да ты в самом деле ничего не знаешь? Приехала она сюда вместе с этим… ну, с мужем, по-нынешнему. Болен он, ну, муж-то этот.
– Лоскутов?
– Ну, он, выходит. У доктора и живут.
– А Марья Степановна знает об этом?
– Знает-то знает, да только слышать ничего не хочет…
Старушка махнула рукой и заплакала. Для чужого горя у нее еще были слезы…
– Ведь Надежда-то Васильевна была у меня, – рассказывала Павла Ивановна, вытирая слезы. – Как же, не забыла старухи… Как тогда услыхала о моей-то Кате, так сейчас ко мне пришла. Из себя-то постарше выглядит, а такая красивая девушка… ну, по-вашему, дама. Я еще полюбовалась ею и даже сказала, а она как покраснеет вся. Об отце-то тоскует, говорит… Спрашивает, как и что у них в дому… Ну, я все и рассказала. Про тебя тоже спрашивала, как живешь, да я ничего не сказала: сама не знаю.
– Про мою жизнь, Павла Ивановна, кажется, все знают – не секрет… Шила в мешке не утаишь.
– Ох, Сереженька, голубчик, много болтают, да только верить-то не хочется…
Старушка покачала головой и, взглянув на Привалова своими прищуренными глазами, проговорила:
– А ты на меня не рассердишься, голубчик?
– Нет, говорите.
– Не знаю, правду ли болтают: будто ты вином этим стал заниматься и в карты играешь… Брось ты, ради Христа, эту всю пакость!
Привалов улыбнулся.
– Нет, Павла Ивановна, мне так легче… – проговорил он, поднимаясь с места. – Тяжело мне…
– Ох, знаю, знаю… Басурманка твоя все мутит.
– Нет, я на жену не жалуюсь: сам виноват…
Они простились. Расчувствовавшаяся старушка даже перекрестила Привалова, а когда он намекнул ей, зачем собственно приходил, она отрицательно замахала руками и с грустной улыбкой проговорила:
– Нет, ничего мне не нужно, голубчик… Да и какая необходимость у старухи: богу на свечку – и только. Спасибо на добром слове да на том, что не забыл меня. А ты сам-то попомни лучше мое-то слово…
Она здесь, в Узле, – вот о чем думал Привалов, когда возвращался от Павлы Ивановны. А он до сих пор не знал об этом!.. Доктор не показывается и, видимо, избегает встречаться с ним. Ну, это его дело. В Привалове со страшной силой вспыхнуло желание увидать Надежду Васильевну, увидать хотя издали… Узнает она его или нет? Может быть, отвернется, как от пьяницы и картежника, которого даже бог забыл, как выразилась бы Павла Ивановна?
«Умереть…» – мелькнуло в голове Привалова. Да, это было бы хорошо: все расчеты с жизнью покончить разом и разом освободиться от всех тяжелых воспоминаний и неприятностей.
Для кого и для чего он теперь будет жить? Тянуть изо дня в день, как тянут другие, – это слишком скучная вещь, для которой не стоило трудиться. Даже то дело, для которого он столько работал, теперь как-то начинало терять интерес в его глазах. Он припомнил Ирбитскую ярмарку, где лицом к лицу видел ту страшную силу, с которой хотел бороться. Его идея в этом стройном и могучем хоре себялюбивых интересов, безжалостной эксплуатации, организованного обмана и какой-то органической подлости жалко терялась, как последний крик утопающего.