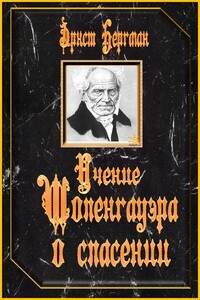Притчи Дмитрия Мережковского: единство философского и художественного - страница 50
Тот же прием писатель использует и для освещения внутренних противоречий героини. Дио становится для Таммузадада не просто объектом чувства и чувственного вожделения, но и мистической загадкой, лежащей по ту сторону мистериального знания, объясняющей возможность слияния полов, доступную лишь миру божественному, миру идеальных сущностей: «…он никогда не знал, кого любит — ее или его. Видел голую женскую грудь, а все-таки не знал. О, это слишком худое, отрочески стройное тело, слишком узкие бедра, угловатость движений, непокорные завитки слишком коротких, иссиня-черных волос и мужественно-смуглый, девственно-нежный румянец, как розовый цвет миндаля в густеющих сумерках, и темный пушок на верхней губе — смешные “усики” — для него не смешные, а страшные! Ни он, ни она — она и он вместе — Лилит, Лилит!»[180]
Двуполость, андрогинизм, якобы присущие человечеству Третьего Завета, — свойство персонажей позднего Мережковского, отмеченных печатью Духа Святого, и прежде всего это наивысшее воплощение самого совершенного человека на Земле — Иисуса Неизвестного.
Черты философской концепции писателя легко идентифицируются и в описании святилища Матери — святая святых языческих мистериальных \157\ культов. Три чаши «для воды, молока и меда: вода — Отцу, молоко — Сыну, мед — Матери» — символизируют знание языческой мистерией не только Лика Троицы христианской религии, существующей от сотворения мира, но и триодичность мирового исторического процесса, представленного тремя периодами, совершающимися под знаками Отца, Сына и Матери-Духа. «Святая Секира — Лабра» — знамение «Сына закланного, Тельца небесного» — символ знания языческой мистерией великой тайны христианского мира — жертвы Бога Отца, пославшего Сына в мир для искупления греха всего человеческого рода.
Критерием истины для героев Мережковского становится идентичность мифологического опыта двух народностей, приходящих в разных мистериальных таинствах к тождественной мудрости — мудрости предвидения христианства (великой жертвы Бога, пострадавшего за мир ради спасения человечества, и великой роли Матери как спасительницы, заступницы человека и главного Лика Божества, соединившего в себе вместе Отца и Сына).
В уста Таммузадада, героя, воплощающего правду земного «евклидова» ума, Мережковский вкладывает рассуждения о катастрофическом конце мира, о неизбежности войны, завершающейся кровавым потопом. Подобные рассуждения расширяют идею писателя о конечности и ограниченности рационального знания, способного привести человечество не к возвышенному идеальному абсолюту, а к неотвратимой гибели в бездне Небытия. \158\
Психологический конфликт романа, воплощающийся в стремлении героя обрести земное счастье разделенной любви, получает философское измерение, раскрываясь неразрешимым противоречием полового вопроса в философском споре Таммузадада, исповедующего земную истину половой любви, и Дио, ставшей для героя мистической загадкой идеального пола, сочетающего в себе черты обоих земных полов. Земной пол, как и смерть человека, у Мережковского — атрибут вещного мира, в котором господствуют материя и разум, что выражено в устах Таммузадада формулой «Дважды два — четыре». Воскресение и воскресный пол — идея вечной жизни — принадлежат миру духовному и выражаются формулой «Дважды два — пять», символизируя алогичность, иррациональность понятия, невозможность его разумного, рационального истолкования. Духовный путь героя в романе определяется стремлением подняться от рационального истолкования истины, свойственного земному «евклидову» уму человека, живущего в трех измерениях, к духовной субстанции идеальных сущностей, в которой понятия земной логики теряют первоначальный смысл, казавшийся единственно возможным и истинным. На этом пути герой обретает свою судьбу. Любовная драма, рожденная чувственным вожделением, вырастает в духовный подвиг-мученичество ради спасения любимой, мотивированный глубинным предвидением — пониманием христианской идеи — добровольной жертвы Бога ради спасения человека.