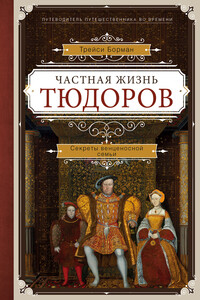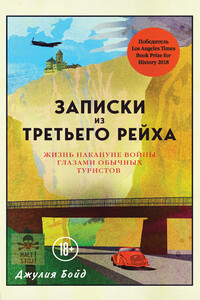Представление о том, что детоубийство было широко распространено, основано, прежде всего, на огульных заявлениях (бездетных) мужчин вроде Сенеки, утверждавшего: «мы уничтожаем всякий неестественный уродливый приплод; даже детей, если они рождаются слабыми и ненормальными, мы топим»[85], словно он топил по ребёнку каждый четверг, и Плутарха, считавшего, что до дня наречения имени дети ближе к растениям, чем к животным[86]. Но если оставить в стороне эти резкие ремарки, можно обнаружить, что в древнем мире жило достаточно много людей с ограниченными возможностями, а значит, далеко не всех «ненормальных» детей (прошу прощения за оскорбительные формулировки Сенеки) топили или «уничтожали». Точно так же археология не подтверждает представление о том, что римляне убивали маленьких девочек, потому что мальчики «ценились» больше. Источник этого мифа, живучего, словно герпес – одно-единственное письмо из римского Египта (плюс множество додумок). Генетические исследования захоронений младенцев, которые можно назвать массовыми для пущего драматизма, показывают, что обычно младенцев мужского пола в них даже больше, чем женского, а порой тех и тех поровну (правда, зачастую пол вообще невозможно определить). Нет никаких свидетельств того, что где-либо в римском мире практиковалось убийство детей по половому признаку[87]. Правда в том, что в дохристианские времена деторождение и смерть детей считались в Риме чем-то исключительно частным, поэтому узнать, как часто родители убивали своих детей и как римляне относились к таким убийствам, решительно невозможно.
Как рождение, так и смерть младенца были для римлян событиями строго семейными, поэтому в поле зрения истории они, увы, не попадали. Практически невидимы они и для наших глаз, пытающихся подглядеть за прошлым из будущего. Археологические раскопки показывают, к примеру, что скелеты детей почти никогда не находят на территории древних кладбищ; их находят в захоронениях на территории древних домов. Родители умерших (или убитых) детей хоронили их тихо, зачастую в небольших горшках, у себя в садах или во дворах. Они не устраивали публичных похорон; это было дело частное, домашнее, тихое[88]. Случалось так, что за столетия в этих садах и дворах скапливалось множество детских захоронений. И причина не в массовых убийствах, а в том, что младенцы крайне уязвимы, а столетия длятся долго. Мы можем заключить, что детоубийство не считалось преступлением, потому что не было публичным действием. Оно совершалось в семье, а римское государство не имело права – да, впрочем, и не стремилось – вмешиваться в частную жизнь людей, когда речь шла о детях и смерти. Убийство одного члена семьи другим – кто бы ни был его жертвой – считалось в Риме прежде всего семейным делом.
Интригует отсутствие какой-либо общественной реакции на убийство младенцев. Даже во времена империи, когда неприкосновенность семьи постепенно уходила в прошлое – до такой степени, что император мог взять и запретить людям убивать их собственных детей – не фиксируется никаких скандалов, связанных с детоубийством. Ни одной драматичной истории на эту тему – ни в трактатах историков, ни в письмах старых мужчин. В значительной степени это объясняется тем, что богатых старых мужчин не особенно интересовали женские заботы, включая всё, связанное с детьми. Их внимание могло привлечь разве что рождение ребёнка с головой свиньи – это был дурной знак. Впрочем, даже в таких случаях не было никакой гарантии, что они обратят внимание на случившееся. Тем более – что они это запишут. Таким образом, всё, что касается каждого умершего ребёнка, теряется в чёрной дыре истории. Каждого ребёнка, родившегося мёртвым. Каждого ребёнка, ставшего жертвой какой-нибудь из опасностей, подстерегающих детей в первые часы жизни. Каждого ребёнка, задушенного рыдающей женщиной, оказавшейся в безвыходном положении. Каждого ребёнка, умышленно и жестоко убитого отцом, не желавшим, чтобы его рабыни рожали новых рабов. Каждого ребёнка, убитого по неосторожности. Каждого нежеланного ребёнка, выброшенного на мороз. Обо всех этих детях, об их матерях и отцах, об их слезах и смехе мы не можем сказать ничего определённого.