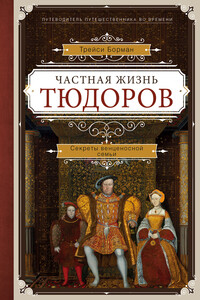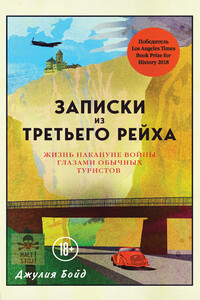Во введении мы знакомились с формулировками законов об убийстве, действующих в англоязычных странах. Их авторов, если вы помните, больше интересует, каковы были намерения убийцы и находился ли он в здравом уме, а не детали самого преступления. Сулла же считал, что важнее всего как можно подробнее описать действия, которые он решил запретить, и объявил вне закона убийство путём умышленного поджога, путём лжесвидетельства, путём подталкивания других к лжесвидетельству, путём вынесения заведомо несправедливого смертного приговора в суде, в том числе за взятку, и при помощи яда. Это не очень похоже на знакомые нам законы об убийстве. Данный закон был направлен против римских аристократов, которые по завершении кровавой войны сводили счёты друг с другом при помощи судов и вооружённых группировок. И Сулла хотел прекратить это, чтобы расправляться с врагами при помощи судебной системы мог только он сам.
Корнелиев закон рисует картину противостояния напуганных и мстительных представителей знати, десять лет убивавших друг друга на полях сражений, но так и не забывших старые обиды. Он свидетельствует о многочисленных пороках судебной системы, о наводнивших Рим отравителях и бандах. Сулла собирался со всем этим покончить. Его закон – это не абстрактный правовой акт, который можно использовать в различных ситуациях, чтобы отличать убийства от случаев причинения смерти по неосторожности. Это весьма специфический закон, разработанный с учётом особенностей весьма специфического периода римской истории. Вышло так, что его продолжали применять даже после того, как республика рухнула, а на её месте возникла имперская система. Ведь именно в законах Суллы впервые была сформулирована идея государственного вмешательства в дела частных лиц.
До Адриана (правил в 117–138 годах н. э.) ни один из императоров не издавал юридических актов, касающихся убийства. Ни Август, ни Веспасиан, ни Траян не удосужились сказать римлянам: «не убивайте людей намеренно!» Просто это не входило в их компетенцию. Эдикт Адриана представляет собой довольно небрежное, но весьма заметное вторжение римского государства в жизнь и деятельность частных лиц. Вот его текст:
«…того, кто убил человека, можно оправдать, если он совершил это не с намерением убить, и должен быть осуждён как человекоубийца тот, кто не убил человека, но ранил, чтобы убить»[51].
Таким образом, Адриан впервые в римской истории признал преступлением покушение на убийство – это его достижение явно недооценено.
Рассмотренные нами законы действовали на протяжении нескольких столетий римской истории – пожалуй, я перечислила всё самое важное, и почти всё, что касается тех убийств, о который пойдёт речь в оставшейся части этой книги. Разница в том, что до Адриана в римском праве жертвой жестокого преступления против личности считалось частное лицо, а не государство. Я живо представляю себе, дорогой читатель, как вы закатываете глаза при виде этого до боли очевидного утверждения: ведь в повседневном общении мы и сегодня называем жертвой того, кто был убит, а родственниками жертвы – членов его семьи. Но государство смотрит на произошедшее иначе – по крайней мере, если речь о любом из современных западных государств. С их точки зрения, в каждом деле об убийстве есть как минимум две жертвы: сам человек, лишённый жизни, и достоинство государства. Человек, которого пронзают ножом, становится жертвой насилия, а государство – жертвой посягательства на его право контролировать поведение своих граждан. Поэтому уголовное дело возбуждается именно государством. Жертва убийства или покушения на убийство не может отказаться от выдвижения обвинения против преступника, потому что, будучи одной из его жертв, не является единственной жертвой. Ну, ещё и потому, что обычно к этому моменту жертва уже мертва. В любом случае решение о возбуждении уголовного дела принимает государство, и в суде по такому делу выступает государственный обвинитель – потому что уголовные преступления наносят государству ущерб.
В Риме, однако, убийство не считалось преступлением – в том смысле, что государство не было заинтересовано ни в его расследовании, ни в преследовании виновных. Римские сенаторы не занимались сыском. Римскому государству не нужны были прокуроры; оно не считало – по крайней мере, пока им не начали править императоры – что человек, задушивший жену или заколовший личного врага, нанёс ему, государству, ущерб, бросил ему, государству, вызов. Убийство считалось личным делом убитого и убийцы. А восстановление справедливости было личным делом родственников жертвы, которые могли сами провести с виновником серьёзную беседу или нанять адвоката и вызвать виновника в суд. Таким образом, в римском мире привлечение убийцы к ответственности напоминало не детективные сериалы вроде «Таггерта» и ‘C.S.I’, а разбирательство с водителем незастрахованной машины, который врезался в вашу, и которого вам приходится тащить в суд мелких тяжб, чтобы он оплатил вам установку нового бампера. Расследование убийства и привлечение к ответственности виновного ложилось на плечи родственников и друзей убитого.