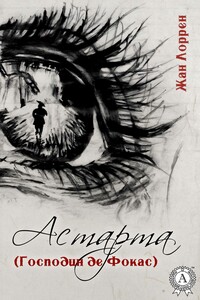Они все походили один на другой, однообразные, бесконечные, удушливые и раздражающие от излишка ароматов и вялой праздности; таково было желание сонма жрецов Изиды.
Пищу его составляли рис и вареные травы, потому что жрецы опасались возбуждать его кровь. Наркисс не умел разбирать свитки папируса, которые днем и ночью изучали жрецы. Веки его были выкрашены сурьмой, зубы натерты суаком; он жил в полном неведении своего происхождения и своей судьбы. Днем и ночью за ним следило бдительное око воспитателей, днем и ночью уши их были настороже. Они заботились только о его красоте и невежестве и, как пресыщенный идол, Наркисс принимал поклонение и услуги внимательного и боязливого стада старых тюремщиков-евнухов.
Они редко приближались к нему, невольно волнуемые его страшной красотой; в нем текла кровь Изиды, и, повинуясь Верховному Жрецу, они смутно чувствовали, что совершают кощунство, изнеживая таким образом внука богов. А нагой Наркисс, как броней, одетый драгоценными камнями, содрогаясь всем телом от прикосновения холодных гемм, томился в жаркие часы дня, в полумраке разрушенных высоких зал, бессознательно плененный лучезарным хаосом цветов, изливавшихся в трещины сводов, с животной негой отдаваясь тайным ласкам своего тела, раскинувшегося на прохладных цыновках, и жизнь его, лишенная всякого труда и движения, была праздной и пагубной жизнью молодого животного.
В эти часы его посещали иногда странные грезы, неожиданные образы вставали перед ним, видения, как бы напоминавшие о его небесном происхождении. Чтобы удержать их, Наркисс сжимал кулаки и смежал веки, подняв подбородок и протянув губы к неведомой тайне поцелуя, и тогда раздавались звуки арф, нежные и сладострастные призывы флейт. Тихие аккорды, пробегавшие по струнам, как ласка, усиливали его экстаз, обрисовывали точнее его видения, и Наркисс просыпался, раздраженный, в судорогах… и каждый раз, при этих пробуждениях, из угла залы доносился испуганный шелест полотняных одежд, звенели заглушенные арфы, словно захваченные врасплох музыканты обращались в паническое бегство.
Жрецы, охранявшие ребенка, удвоили бдительность, но отдых в дневные часы все больше истомлял Наркисса; силы его гасли в гнетущей атмосфере этих знойных дней, и юный фараон несколько успокаивался только при наступлении сумерек, в час, когда пустыня голубеет от приближения ночи и прохлады. Наркисс выходил тогда из храма и, весь сверкая драгоценными камнями и цветами, удалялся на террасы. Он прогуливался там и ночью. Ночь приносила ему умиротворяющую прохладу, материнскую ласку. Божественная, как и он, ночь любила и утешала дитя. В знойные и ослепительные дни Наркисс инстинктивно чувствовал себя пленником в этих высоких залах, населенных, как призраками, музыкой и ароматами. Ночью он чувствовал себя свободным, вновь становился самим собой, и ночью он любил эти древние храмы, которые днем давили его, как страна изгнания… О, эти храмы! Они облекались такой красотой под чарами лунного света, в стальной синеве египетских ночей!
Неведомые здания вставали из их развалин: колонны выпрямлялись, портики удлинялись до бесконечности, на зыбких, как металлическое море, песках вырастали химерические, точно бронзовые, пальмы. И, насколько хватал глаз, между пустыней и Нилом тянулись ряды громадных сфинксов и анубисов с ястребиными головами; лестницы поднимались, вились спиралью, уходя неизвестно куда, другие спускались с террасы на террасу, и на каждой ступеньке стояли идолы с серебряными глазами, то погруженные в дремоту, то зорко смотрящие вдаль. Цветы походили на лица, в изгибах растений таились словно застывшие жесты, и терпкие острые ароматы оживляли Наркисса вместо того, чтобы усыплять. Прозрачная, как нефритовый шар, луна так мягко плыла по безмолвному небу, что Наркисс, смотря на нее, чувствовал, что замирает, как под медлительной лаской, широкой и глубокой, необъятной лаской, струившейся во всем его существе, как музыка или волна меда.
По ночам оживало и угрюмое безлюдье пустыни; гиены и шакалы, привлеченные отбросами после жертвоприношений, являлись к подножью развалин. Неслышной поступью они пробирались к подножью террас, и заросли оазиса наполнялись глухим шорохом. Потом блуждающий силуэт Наркисса увлекал их ближе к храмам, и желтые глаза их, как рассыпанные топазы, озаряли ночной мрак. Наркисс бесстрашно и пристально смотрел на них; иногда приходили тигры и даже львы, и ночь пропитывалась запахом хищников, а Наркисс смотрел и на тигра, и на льва.