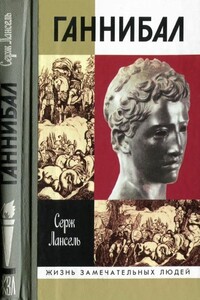Не так давно известный прогрессивный деятель Канады Петро Кравчук прислал из Торонто напечатанное на грубой оберточной бумаге письмо червонных казаков к «вольным казакам» Петлюры. Этот призыв появился на свет в 1920 году в Тернополе, а оттуда попал в Канаду, чтобы спустя более сорока лет снова вернуться к нам.
Ценность обращения в том, что он полон аромата той бурной эпохи и что он создан пером человека, высоко ценившего силу правдивого слова.
Что ж? Мы помним то время, когда из-под пера Примакова появился на свет этот замечательный документ. Помним и тех одиночек из вражеского лагеря, которые с покорной головой шли к червонным казакам. Помним и те организованные боевые единицы, которые вопреки воле своих атаманов поворачивали штыки и громили полки пана Петлюры и пана Пилсудского.
Нет, слово не может заменить штыка, но оно должно слиться с ним в едином сокрушительном ударе…
Надо прямо сказать – были в ту пору командиры, которые умели хорошо воевать, но еще лучше – показать сделанное. Примаков был совсем иной. Он умел только вести за собой массы и сражаться.
Ездил он к матери в Шуманы. В Киеве, на Владимирском базаре, звучат еще песни слепых бандуристов о недавнем прошлом. Читал он «Червону Кобзу» Эпика, и больше о червонных казаках ни слова… Написал бы кто о наших людях вроде этого: «Блистая в латах, как в огне, чудесный воин на коне грозой несется, колет, рубит, в ревущий рог, летая, трубит…» Вот динамика, экспрессия, порыв!.. Вот бы сотую долю этой огненной силы ему, Виталию!.. Не просто гнать, а подбирать певучие рифмы – тоже не так просто. Он это знает… Мастер дела тот, кто умеет в стихах тонко изливать свои чувства. И лишь настоящий поэт хватает за душу умением выражать и будоражить большие мысли…
Из одних и тех же кирпичей тот лепит карцер, а другой – школы, один строит мрачный цейхгауз, иной – возводит сверкающий палац. Вообще великое дело – творить, фантазировать, домышлять. И все же сильные чувства вызывает лишь талант, тогда как разжечь сильные ощущения может и посредственность…
Ходил он недавно на литературный диспут в Политехнический музей. Конечно, творчество беззубо, если оно не бесит негодяев, лицемеров, мещан. Но досадно – рядом с исполинами, с витязями слова подвизаются пешки. И не в этом зло. Зло в том, что они «учат». Шепелявый не лезет в оперный класс, безногий – на танцкруг. А вот невежды рвутся на большую трибуну, чтобы учить других, а вернее всего – поучать.
Не нравились ему и некоторые лихачи из «Лефа». В этом ура-новаторском журнале, наряду с настоящими литераторами, рядились в «революционные» мундиры, выступали и сущие хулиганы слова. И поэты, перемежавшие возвышенный «штиль» самой оголенной похабщиной.
– Есть поэт-гражданин и поэт-скоморох, – говорил Виталий. – Есть поэт-патриот и поэт-матриот, то есть любитель мата… Ничто не может извинить неряшливости речи, – утверждал Примаков, не терпевший и командиров-матерщинников, – ни «нервы» одних, ни необузданность и заслуги других, ни терпимость третьих. Ни бесконтрольность, ни безнаказанность, ни распущенность, ни лихость, ни стремление усилить действие команды, ни желание унизить нижестоящего, ни потуги оскорбить виновного, ни желание «поощрить» отважного не могут оправдать сквернословия нашего человека.
Надо, чтобы все – и начальник, и подчиненные, и самые младшие, и самые старшие, и в классе, и в поле, и в атаке, и после нее, и перед лицом друга, и перед личиной врага, и в добре, и в гневе – одинаково чтили и святое имя матери и добрую славу родного языка.
О чем говорит неуважение к родной речи? Оно говорит прежде всего о неуважении к человеку. Человек? За его достоинство лилась кровь на Перекопе, на Висле, на Амуре. Я слышал одного ругателя. Он очень хорошо говорил о человеке с трибуны, а потом, когда перед ним предстал не абстрактный человек, а конкретный… Да! – покачал головой Виталий Маркович. – Иные широко шагают, но щадят людей – это настоящие деятели. Но есть и такие: широко шагая вперед, они попирают людей – это деляги!
В широко раскрытых глазах Примакова блеснули зеленые огоньки. Все чаще подносил он ко рту чубук трубки. И стал он вспоминать. Заговорил о сотнике-поляке Добровольском, старейшем червонном казаке. Случился с ним грех – проиграл всю получку сотни. Шум, крик, топот в штабе – прискакала возмущенная боевая орава. А тут им сказали: Добровольского будут судить. И скорым судом полевого трибунала. Притихли казаки. Пошушукались, а потом вновь загудели, потребовали лист чистой бумаги, усадили за стол своего грамотея, наспех составили раздаточную ведомость. Огрызком карандаша почти все расписались в получении месячного оклада. А неграмотные засвидетельствовали это, с усердием тиснув бумагу большим пальцем. Ворвались в трибунал, а оттуда вынесли на руках своего легкодумного, но боевого командира.