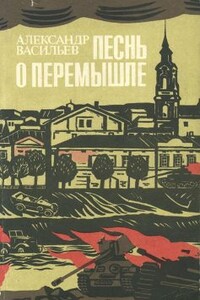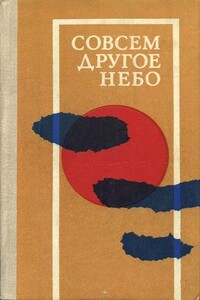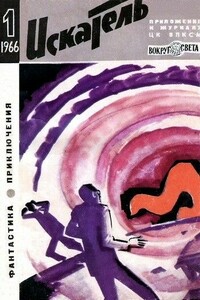Ильин пишет, что один особенно ему запомнился.
«Этот бой начался рано утром. Я находился в роте пограничников, имевшей задачу обойти слева противника, занимавшего село. Мы по лощине вышли к водяной мельнице, расположенной на окраине села. Надо было проскочить по мельничной плотине, которую немцы держали под огнем ручных пулеметов. Наши бойцы бесстрашно бросились вперед. По узкому мостику они пробегали парами, некоторые падали в воду. И все-таки мы преодолели плотину. Накопившись на другом берегу пруда, рота, несмотря на численное превосходство врага, атаковала фашистов. Дело дошло до рукопашной схватки. На каждого из нас приходилось по два-три гитлеровца. Дрались зло — и те, и другие. В ход пошли гранаты, приклады, ножи. Хотя у меня был уже некоторый опыт, но такое я наблюдал впервые».
Это село называлось Краснополка. Оно на карте даже не обозначено, и генерал не знает, осталось ли от него что-нибудь, поскольку тогда все горело, рушилось.
— Краснополка?.. Краснополка?.. — повторяет генерал, вдруг оживлясь. И с досадой машет рукой.
— Чертова старость! А все-таки вспомнил. Да ведь там же, в Краснополке, мы услышали по радио сообщение, что наша дивизия награждена орденом Красного Знамени?
Он берет у меня статью, близоруко приблизив листки к глазам, лихорадочно листает.
— Я же писал… Ага, смотрите здесь!
«Такое забыть нельзя! — читаю я. — В тяжелой обстановке отступления люди, измотанные непрерывными боями и походами, были взволнованы, потрясены этим известием и благодарили за признание их ратного труда. Многие плакали от радости».
Бывший начальник политотдела вспоминает, что он написал тогда обращение к бойцам. «Слова сами шли из души. Тут были и боль за погибших товарищей, и гнев на проклятых фашистов, и радость от того, что не посрамили знамя, и гордость за наше прекрасное, молодецкое воинство… Представьте, я тоже тогда плакал — такой был накал чувств. Писал — и плакал».
Он обещает поискать эту листовку в своих бумагах и показать ее мне.
— Что у вас еще сохранилось от тех дней?
Петр Сысоевич, усмехнувшись, стучит себя по протезу.
— Значит, вы тогда выбыли из армии? Генерал упрямо качает головой.
— Шиш, да маленько! — так я сказал тем, кто предложил меня комиссовать. Не таков, мол, Ильин, чтобы выбыть из строя в самом начале войны. «Я сказал, — он грозит кулаком, — должен с фрицами рассчитаться за все мои раны, за все передряги!»
— И вас послушали?
— Не могли не послушать. — Он подмигивает. — Я ведь ни в огне не горю, ни в воде не тону…
И чтобы его слова не приняли за бахвальство, поясняет:
— Вот мои приключения только за первый год войны. — Он кладет на стол большую красивую совсем не старческую руку и начинает загибать пальцы. — Окружений — три, ранений — три легких и одно тяжелое, побегов — два: один — удачный — от немецкой стражи и еще один — неудачный — из нашего тылового госпиталя. Три раза тонул, раз пять меня зачисляли в списки пропавших без вести, однажды даже успели домой повестку послать, ан нет, оказался жив курилка! — Он смеется.
— И как же вы справлялись?..
Ильин, видя, что я замялся, подхватывает:
— Как я комиссарил на одной ноге? — Он смеется. — Так же, как и на двух. Мало того, решил попробовать свои силы в качестве командира. Пришлось опять добиваться. Добился. Послали меня на высшие командные курсы. Закончил их и получил полк. Потом бригаду. Потом дивизию… Дошел, можно сказать, на своей деревяшке до самого фашистского логова.
Глаза его задорно блестят.
— В сорок третьем, когда мне дали генерала, немцы каким-то образом дознались про мой протез и объявили через репродукторы бойцам нашего переднего края, что дела, мол, у вас «швах», если над вами одноногих генералов ставят. А бойцы — те по-своему эту весть переиначили. «Швах» то у вас, — сказали, — если наши одноногие ваших двуногих бьют!»
Я смотрю на генерала. Куда делась его недавняя болезненная усталость? Он говорит живо, шутит, лицо разрумянилось.
Но теперь я вспоминаю о его недуге и поднимаюсь, чтобы уйти.
— Надеюсь, что мы еще встретимся?
— Почему — «надеюсь»? — Рукопожатие у генерала неожиданно крепкое. — Обязательно встретимся!