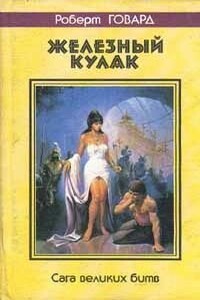— Ну чего ты? — рявкнул из-за двери Михаил свирепым шепотом.
Я вышел из гаража, как статуя Командора. Сказал:
— Чтоб не пустыми.
— Чтоб тебе пусто было! — уточнил Михаил, скрежетнув зубами, но баллоны взял, помог.
Когда мы пробирались к моей «Волге», повалил тяжелый, мокрый снег, таявший на нас, грязных, распаренных, едва к нам прикоснувшись. Я завел машину. Включил габариты. Сказал:
— В больницу нельзя.
— У Володьки Крохина жена... — поморщился Мишка от боли, — врачиха, по-моему...
Я посмотрел на часы. Половина первого ночи.
Володька, хорошо, не спал. Творил. Боролся со словом. К позднему визиту и моему диковатому видику отнесся спокойно. Я объяснил ситуацию: Мишка поранился, нужен свой врач — чтобы без протокола, и, будь добр, если имеются вопросы, оставь их при себе.
— Ладно, — он лениво потянулся к пальто, — Алла как раз дежурит, так что вовремя подгадали. Едем.
Ни ахов, ни расспросов, будто я трешник пришел занять. Надежный мужик. Вот с кем дела делать! Но другие интересы у человека.
Ахи и расспросы начались в больнице, в ночной, залитой светом приемной. Алка вообще баба любопытная, я ее давно знаю, в одном классе учились, и любовь у нас была — в смысле целовались в подъезде и в кино ходили, но женщина она хоть и ничего так — блондиночка, все при ней, но въедливая, черт, обидчивая и любопытная беспредельно.
— На что-то похоже, — сказала она, обильно поливая раны перекисью водорода. — Собачьи покусы, по-моему, честное слово...
— Это похоже на собачьи покусы, как... — Мишка приоткрыл мутные глаза. Помедлил, глядя на розовощекого и пухлого доктора, на минутку заглянувшего в кабинет. — Как этот вот... — кивнул, — на тень отца Гамлета... Покусы! Хрена себе!
— Ну все же... — настаивала Алла.
Вовик рыкнул: вопросы завтра, сейчас действуй! Надулась, покачала права, но травмы зашила, обработала, перебинтовала и, вкатив Мишке укол, сказала, чтобы через день приходил вновь. Вскоре я, вышибая, как в ознобе, чечетку на педали акселератора, рассекал ночные туманы на шоссе, доставляя Михаила в его пенаты. Вовик — сама невозмутимость, сидел рядом со мной, глядя на пожираемый светом асфальт.
Когда Мишка, матюкаясь, вылез и отправился через сугробы к родной избе, я почувствовал, что устал бесконечно, до такой глухоты всей нервной системы, что не хотелось ничего, даже спать не хотелось, Полная прострация.
Посидели, молча выкурили по сигарете. Дым драл глаза и глотку невыносимо, по-ночному. Затем погнали обратно.
— Стой, — сказал Вовик при въезде в наш микрорайон. Открыл дверцу, задрав голову, посмотрел на мертвую стену спящего дома. Я тоже. Издалека докатилось — дом Марины. Два светящихся окна. И вдруг отрезвленно и больно постиг, что это ее окна, и Володька приметил их еще издалека, и свет этот ему — ох как небезразличен!
— Двушка есть? — спросил он, скрывая волнение.
Я дал двушку. Он вылез. Сказал в приоткрытую дверь:
— Я тут... сам. Пешком. Да, знаешь, в случае чего подтверди Алке: сломалась машина, и я с вами до утра ковырялся. А то и так ходит немым укором...
— Хорошо.
Как я относился к нему в этот момент? Да никак. Обида была. Жгучая и морозная обида. Ни на что, ни на кого, и на весь мир в целом. Я, только я — пасынок фортуны — был достоин этой женщины! Да и еще многого, что никак не шло в руки: жизни, где каждый день — событие, большого дела, славы... Неужели все это для кого-то, а не для меня?
Сырая улица. Провисшие от снега провода. Дробящиеся огни фонарей в забрызганном грязью лобовом стекле. Одиночество. Зачем живу?