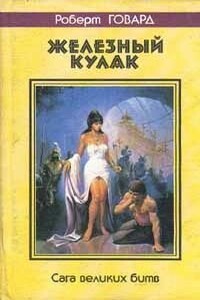Секунду Свиридов сидит выпучив глаза. Соображает. Затем встает и уходит, правда, вместо прощальных слов цедит матерные и хлопает дверью так, что она открывается вновь. Мелкое его хамство воспринимается мной холодно. Единственное, о чем думаю, — как убедить главного вернуться к материалу. Особой принципиальностью не отличаюсь, но слепо убежден, что граждан, подобных Свиридову, следует давить, как сытых клопов. Они — зло социальное, рождающее зло нравственное, что калечит бесчисленное множество людей слабых. Чума.
Дверь открывается, и на пороге возникает Козловский. Рыхлое лицо, рыжая бороденка, потертые джинсы, прожженная сигаретой синтетическая рубаха, пуловер в катышках свалявшейся шерсти...
— Салют из трех берданок! — Он садится на стол, прямо на свою рукопись. Ноги у него до отвращения тощие. — Какие планы?
— Ммм? — говорю я, думая, что этот прозаик-юморист сам по себе гораздо смешнее всех своих сочинений.
— В общем, так, — сообщает он. — Колька Внедрищев приглашает немедля к себе. Меня и тебя. Будут два каких-то эстрадника из Сибири. Нуждаются в сценарии концерта... Дело стоящее. С нас коньяк и сухое. Ты... при монетах? Я, понимаешь, поиздержался...
Колька Внедрищев — завотделом на телевидении. Это сила серьезного масштаба, и халтура у него всегда надежная, без осечек. Размышлять тут не приходится.
Я одеваюсь, гашу свет и запираю дверь на ключ. В этот момент звонит телефон. Мне представляется, что это — моя жена. Пока мы идем коридором и спускаемся в лифте, я думаю, как же ей тяжело со мной — лгущим, слабовольным и ненадежным. Впрочем, каков я есть, знаю лишь я, она менее пристрастна, поскольку и менее осведомлена.
Мы чистим снег с машины, прогреваем движок и, покуривая, слушаем мою передачку.
— Радио — большой унитаз, — говорит Саша. — В этом его прелесть. Но платить там стали меньше, согласись, отец...
— Угу, — отзываюсь я, думая, что сегодня надо попасть домой. Я сознаю глупость такого желания, детально представляя, как вхожу, вру о командировке в область, цапаюсь за чаем с тещей, потом с женой — без этого ни дня не обходится, это закон, пробираюсь в потемках в комнату, где спит сын, целую его и ложусь спать. Все. Но почему-то хочу домой. Вероятно, угнетает безнравственность нынешнего положения.
— Сегодня я должен попасть домой, — говорю я.
— Ну и попадешь, — вздыхает Сашка, блаженно, как кот, жмурясь от летящего в салон резкого света фонарей. — Раз должен.
Снег идти перестал, и вечер синий-синий.
Мы едем в магазин. Мне отчего-то грустно. Даже пусто как-то. Приемник докладывает последние новости. Завтра ожидается усиление мороза. Ночью — до минус сорока двух! С ума сойти! Я думаю о возвращении домой, о лысых покрышках, о долге за гаражный кооператив и еще о разной житейской дребедени, настойчиво отвлекающей нас от главного.
Козловский застывшими глазами смотрит на дорогу. Говорить нам не о чем. Но все же на светофоре он высказывается.
— День прошел, — говорит он.
— Да ну и хрен с ним, — отвечаю я, и мне становится от слов своих тяжело и неприятно. Я сказал это машинально. Так мы говорили в армии.
— Зеленый, — подсказывает Козловский.
Я жму на педаль акселератора.
Выхлоп из машин, как пар из чайников. Это сравнение я вставлю в какой-нибудь свой стих. Обязательно. Не забыть бы только.
Прощай, ушедший день! Ты был счастливым. Ты даровал мне много удач — больших и малых. Снимаюсь! До сих пор не верю, но это явь, это счастье, это жизнь! На радио отношение ко мне со стороны режиссерши установилось превосходное, и пусть мизерное это достижение, все-таки расходы на колготки оно мне обеспечивает. Далее — приятная встреча с главным в суете за кулисами. Парочка комплиментов и — неуверенный намек на мою занятость в новом спектакле. Похоже, полоса застоя кончается. Но обольщаться вредно. Наконец, удачи быта. Успела в магазины, и, более того, — повезло на две бараньи отбивные и мандарины.
Иду по улице, тащу сумки, перехватывая внимательные взгляды сограждан, а в них вопрос: «Неужели она?» Зачастую во взглядах, на меня обращенных, сквозит недоумение. По поводу сумок, отстаивания в очередях... Да, дорогие товарищи, много у нас общих, простецких забот. И не очень-то это и хорошо, по-моему. Выше обычной смертной себя не считаю, однако те, кто едет со мной в метро или стоит в очереди, — это зрители, а для них, как в актере, так и в писателе, художнике, должна крыться некая тайна, и всегда нас обязан разделять барьер. А какая там тайна, какой барьер в трамвайной давке или в гастрономе. Справедливы ли мои рассуждения — не знаю; безусловно, репутация человека, пользующегося общественным транспортом или же посещающего магазин, страдает едва ли, но некоторая проблематичность в данном вопросе мною тем не менее усматривается.