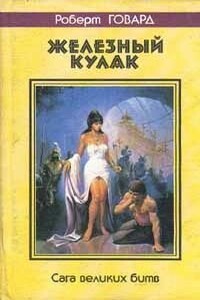Аэроплан профессора Л. серебряной стрелой разрезал небеса, сверкая в холодной и синей бездне вечера. Мало сказать, что он летел над землею, — тем двоим, кого он нес, казалось, что он летит над звездами. Профессор сам сконструировал его, и все в нем было искаженным и причудливым, как и подобает чудесам науки. Мир наук несравненно туманней и неуловимей, чем мир поэзии; ведь в поэзии и в вере мысли и образы верны себе, тогда как, скажем, сама идея эволюции зыбка, словно тяжкий сон.
Все детали и предметы в аэроплане профессора Л. были такие же, как у людей, только не похожие на себя. Они как бы забыли свое назначение и обрели иную, чудовищную форму или иное имя. Штука, похожая на большой ключ о трех колесах, была чем-то вроде револьвера; гибрид двух пробочников — ключом. Открывалось этим ключом что-то похожее на велосипед и очень важное. Все это создал сам профессор — совершенно все, кроме себя и своего пассажира.
Пассажира этого он в самом прямом смысле слова выудил из маленького садика в горах и, хотя не создавал его, собирался над ним поработать. Обитатель болгарских или греческих гор просто светился сквозь заросли седых волос; видны были, собственно, одни глаза, и казалось, что ими он разговаривает. Он был необычайно умен и мудр и не знал печали в своей окруженной горами хижине, обличая ереси, чьи последние приверженцы переказнили друг друга 1119 лет тому назад. Ереси эти содержали немалый соблазн, и монах сумел обличить их; однако никто, кроме него, не понял бы хода его мыслей. Звали его Михаилом (фамилию я писать не стану, западным людям все равно не прочитать ее), и, повторяю, он счастливо жил со зверями в своей хижине. Даже теперь, когда ученый безумец вознес его превыше гор, он не утратил своей радости.
— Милый мой, — говорил профессор, — я не собираюсь убеждать вас. Нелепость ваших легенд ясна всякому, кто знает сей мир тем знанием, которое велит нам избегать сквозняков и нищих. Поистине глупо спорить о таких глупостях. Когда поживешь среди людей...
— Простите меня, — спросил монах, — значит, вы подняли меня в небеса, чтобы я пожил среди людей?
— Занятный вопрос, в узком схоластическом духе, — отвечал профессор. — Что ж, я докажу мою мысль, исходя из вашей. Ваша религия, насколько мне известно, считает небо символом и даже источником правды и милости. Ну вот, вы — в небе, судите сами. Небо жестоко. Пространство страшнее тигра или чумы. Надежды в нем не больше, чем в аду, правды тоже. Если для несчастного потомка обезьяны есть утешение и упование, оно — на земле, и...
— Простите, что прерву вас, — сказал отец Михаил, — но я всегда замечал...
— Так, так! — подбодрил его профессор. — Люблю ваши немудреные мысли!..
— Вы так прекрасно говорите, — продолжал монах, — и вы, и вся ваша школа... но я припомнил ее историю, и пришел к странным выводам, которые нелегко передать, особенно на чужом языке.
— Слушаю, слушаю! — все подбадривал его ученый. — Итак?
— Я заметил, — мягко промолвил отец Михаил, — что особенно красиво вы проповедуете как раз тогда, когда... ну, как бы это сказать?
— Прошу, прошу! — нетерпеливо прервал профессор.
— Словом, ваш аэроплан сейчас обо что-то ударится, — закончил монах, — простите, что я об этом говорю, но лучше вам знать заранее...
Профессор крикнул и пригнулся к рулю. Последние десять минут они летели вниз сквозь кручи и пещеры облаков. Теперь за лиловатым туманом, словно островок в облачном море, темнело что-то вроде макушки огромного шара. Глаза профессора блеснули огнем безумия.