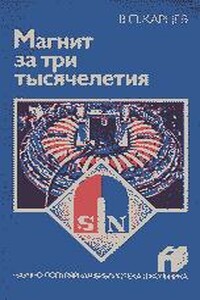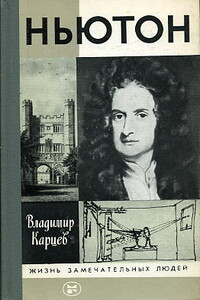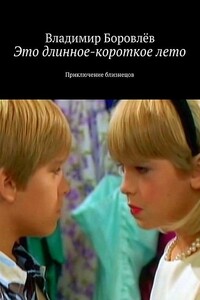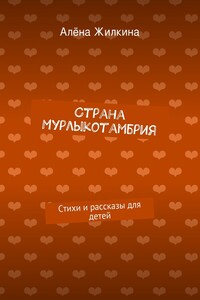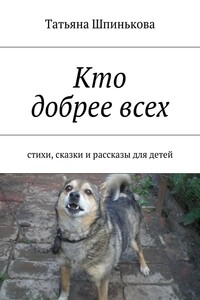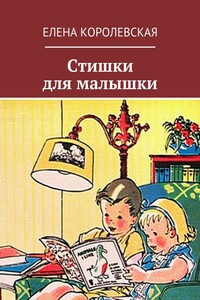Ломоносов сделал подробный продольный и поперечный планы дома Рихмана, где обозначил и местоположение участников драмы в момент удара, и все приборы, повреждения и другие особенности обстановки. Опрошены были и соседи. "Молнию, извне к стреле блеснувшую, многие сказывали, что видели".
Описание экспериментальной установки мы уже давали цитатой из "Санкт-Петербурских ведомостей". Установка, как мы видели, оканчивалась железной линейкой, то есть заземлена не была. Разумеется, к такой опасной установке и близко подпускать никого нельзя было. Однако чем больше читаешь рапорты Ломоносова и Кратценштейна, тем больше убеждаешься в том, что Рихман был не столько жертвой электрического эксперимента, сколько несчастного случая.
Например, в рапорте отмечаются повреждения от удара, которые не были непосредственно связаны с электрической цепью, через которую могла бы пройти молния: "у дверей в кухне отшибло иверень в два фута длиною", он был разбит "в мелкие частицы" и далеко отброшен. Деревянная колода, находившаяся у дверей в сени, также разбита была "сверху донизу", ее "отшибло вместе с крючьями и вместе с дверью в сени бросило". "Посему неизвестно, не сей ли вшедший луч молнии, который по скоплению людей и в соседстве на улице жестоко шумел и пыль вертел и поднимал, без того прошел в сии двери и повредил там бывших". Ломоносов, анализируя положение дверей и окон, а также взаимное расположение аппаратуры и пострадавших, тоже отметил, что "однако отворено было окно в ближнем покое", и "двери пола была половина"... и поэтому "движение воздуха быть могло".
Отсюда напрашивается вывод, что первопричиной несчастья была, скорее всего, шаровая молния ("луч молнии", который "пыль вертел и поднимал"), прошедшая через входную дверь к сеням, которая вовсе не обязательно должна была быть связана с экспериментами Рихмана. Такая молния могла войти и разорваться в любом доме, где "окно было отворено", и "движение воздуха быть могло". Ведь и Соколов говорил насчет "шара". А шаровой молнии вовсе нет необходимости идти по железной проволоке для того, чтобы проникнуть внутрь помещения - для этого ей необходимы лишь слабые потоки воздуха.
К сожалению, соображения подобного толка (на таких настаивал и доктор Кратценштейн) не нашли в то время должного исследователя. Слишком уж гипнотизирующей, очевидной оказывалась в глазах людей, только что узнавших о электрической природе молнии, связь между смертью Рихмана - исследователя молнии - и его аппаратурой. Я написал выше "к сожалению" не случайно. Видимо, смерть Рихмана оказала очень сильное впечатление на ученых того времени. Положительным, конечно, было то, что стали применяться новые меры безопасности, но вместе с тем нельзя отрицать возможности охлаждения к наукам не только не слишком храбрых ученых, но и многочисленных людей, от которых в те времена зависело процветание наук. Ломоносов это прекрасно понимал. Так, в своем знаменитом (А. С. Пушкин восхищался им) письме к графу Шувалову он писал:
"Милостивый государь Иван Иванович! Что я ныне к нашему превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того, что мертвые не пишут. Я не знаю еще или по последней мере сомневаюсь, жив ли я, или мертв. Я вижу, что господина профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время... Между тем умер господин Рихман прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность. Память о нем никогда не умолкнет... Между тем, чтобы сей случай не был протолкован противу приращения наук, всепокорнейше прошу миловать науки".
Из письма видно, что и сам Ломоносов полагал установку Рихмана виновной в его смерти. Такая точка зрения до сих пор широко распространена. Так, в книге "Дороги электричества" я прочел, что Рихман "схватился за стержень" своей громовой машины. В прекрасно иллюстрированной книге Митчела Уилсона об американских изобретателях одна гравюра изображает, как откуда-то сверху прямо в установку Рихмана бьет стремительный зигзаг молнии. В "Беседах о физике" стрела молнии устремляется из установки, словно быстрое жало змеи, прямо на Рихмана.