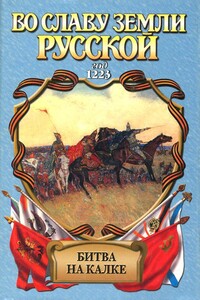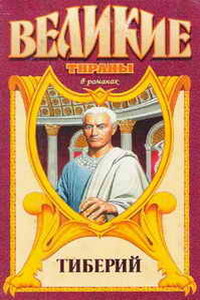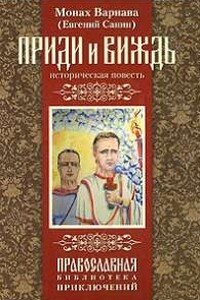— С наворота не взять, княже, — наконец произнес Ларион, досадуя на себя за то, что в голову ничего путного не приходило.
— Не взять, говоришь? Тогда — осаду держать будем.
Ларион поднял на князя взгляд и увидел, что Мстиславу Мстиславичу весело. Неужели придумал что-то?
— Эх ты, сотский! — Князь вдруг широко улыбнулся, как отметил про себя Ларион — впервые за все время похода. — Именно что с наскока возьмем. Только хитростью.
— Так без хитрости нельзя, княже, — разулыбался в ответ Ларион. — До ночи, стало быть, подождем?
— Нет. Сейчас прямо. Пока они там не отошли от дремоты.
Улыбка с лица Лариона сошла, но выражение готовности умереть на нем осталось. Так они и подъехали к своим — веселый князь и хмурый сотник. Несколько десятков пар глаз встретили их напряженным ожиданием.
— Да, братия моя, крепкий городок, — обратился Мстислав Мстиславич к войску. — А вот что мы с ним сделаем. Мы их нынче обманем. К воротам подойдём как владимирский отряд. Они там, в покое да в сытости, поди, разжирели. Когда спохватятся — уж поздно будет. Ларион! Человек семь или восемь мне отбери. Тех, кто половчее. Разделимся. Ну-ка, кто там поближе — расшейте возок! Да побыстрее!
Из возка, который всю дорогу тащила пара сильных коней и который Мстислав Мстиславич никому не велел трогать, было извлечено несколько неожиданных вещей. Пять сложенных стопой червленых щитов с золотыми львами, алая хоругвь со львом же — отличительные знаки войска великого князя Владимирского. Пока вырубался для хоругви длинный шест — издалека чтоб было видно, — семеро дружинников, отобранных Ларионом, поспешно преображались во владимирцев: разбирали щиты, привязывали полоски алого полотна к наконечникам копий. Князь сам следил за всем — каждого придирчиво оглядывал, качал головой, хмыкал.
— Да, неказисто получается. Ну да ничего — сойдет. Издалека не разглядят, а когда поближе подойдем — там уж не до того будет. Ларион! С ними я пойду, сам. Молчи, не перебивай! Я их к воротам подвожу — и стражу берем, и ворота держим. Ты не проспи тут! Как только увидишь, что бой начался, — тут же к нам на выручку! Понял?
— Дай я пойду вместо тебя, княже!
— Молчи! Всем быть наготове! — Мстислав в последний раз оглядел беглым взглядом семерых, уже стоявших отдельно от дружины. — Ну, братия, — никудышные из вас владимирцы. Слушай меня! Ехать — медленно, вразвалку. Разговаривать громко, нагло. Смеяться — чтоб в городе слышно было. Ну — вперед! До встречи, братцы!
Мстислав и семеро сопровождавших его двинулись рысью в сторону дороги, ведущей в город. Остальная дружина, помедлив, последовала за ними.
Вскоре, не выходя из-за деревьев на дорогу, ратники смотрели, как их князь и семеро товарищей приближаются к городу. Никто не разговаривал — сейчас не до того было — и только провожали взглядами алое полотнище хоругви, уверенно покачивающееся над Мстиславом Мстиславичем, который сидел в седле не как воин, а как боярин, посланный из Владимира по поручению самого великого князя. В его посадке чувствовалась та властностная ленца, по какой в нынешние времена легко можно было узнать представителя владимирской знати. Силен и могуч был великий князь, и люди его горды и спесивы.
Никита — он, разумеется, тоже был среди участников похода, — глядя вслед передовому отряду, не чувствовал никакого страха, хотя для него этот бой должен был стать первым. Он много раз воображал себе, как вместе со всеми кинется на ощетинившегося копьями врага или под плюющиеся камнями и стрелами стены. Сейчас же все выглядело совсем не так, как он представлял. Обычный день, обычный город, ничем не привлекающий взгляда. Даже позолоченных церковных куполов в нем не было — а как бы красиво они смотрелись под зимним солнцем! Серый какой-то городишко. Никита не мог понять — зачем князю Мстиславу понадобилось идти сюда. Нужно-то ведь было сразу — на Новгород! Что за польза в этом захудалом Торжке?
Но, похоже, никто, кроме Никиты, такими вопросами не задавался. Лица дружинников в заиндевевших бородах словно почужели, в них проглядывала какая-то незнакомая Никите решимость. Он вдруг почувствовал себя никому не нужным здесь. И понял — как он, оказывается, мало знает об этой жизни! Сразу в груди появился отвратительный холодок детского страха. Тело, тут же сдавшееся морозу, начало дрожать мелкой дрожью.