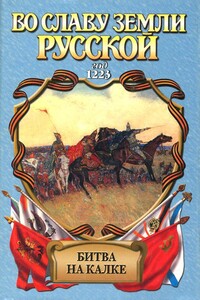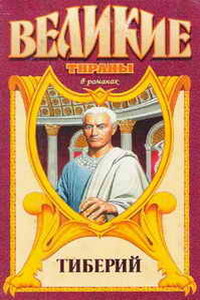На этом можно было остановиться. Опыт недавних событий показал Мстиславу Мстиславичу, что полторы-две тысячи войска в любой битве могут справиться с любым количеством противника. Небольшим войском легче управлять, легче постоянно находиться у него на виду — и оно не побежит, если будет видеть, что князь не бежит, а сражается. К тому же можно было надеяться на поддержку Даниила Романовича, ради которого во многом и затевалась эта война.
К Даниилу отправились гонцы с вестью — чтобы ждал прихода тестя с полками не позже конца весны или начала лета. Мстислав не мог забыть злоключения свои в пору дорожной распутицы и разлива рек. Слякотная галицкая зима для военных действий тоже не годилась.
Гонцы возвратились к весне и привезли от Даниила Романовича радостное согласие: он ждал тестя с нетерпением. И, судя по тому, что рассказали Мстиславу Мстиславичу о безобразиях, творимых уграми в Галиче, нетерпение Даниила ринуться в бой было вполне понятным.
А в Галиче действительно было плохо. Семилетний младенец Коломан, не умеющий еще управлять своими новыми подданными, уже любил наблюдать за казнями тех галицких мужей, которые в чем-то провинились. А собственно власть была в руках боярина Судислава и воеводы угорского Фильния — и те в злодействах своих словно соперничали друг с другом. Судислав указывал, кого надо хватать, а бан Фильний хватал. Казни совершались прямо на княжеском дворе, где для юного Коломана был сооружен помост. С него было лучше видно, как отлетает голова у мятежного боярина, вся вина коего состояла лишь в том, что он был богат или вступился за свою жену или дочь, когда какому-нибудь сластолюбивому угрину захотелось полакомиться. Большей вины и не требовалось!
Галичане расплачивались за то, что не поддержали как следует Даниила Романовича и Мстислава Мстиславича в том походе против угров и ляхов. Думая, что, удалив от Галича беспокойных князей, можно будет полюбовно договориться с королем Андреем и герцогом Лешком, запутавшиеся граждане повесили себе на шею ярмо, из которого мечтали бы выбраться, да не было на это сил.
Судислав, проклятый переветник, открыто называл галицкую волость владениями короля Андрея и требовал от угорского владыки усиления власти. Судиславу казалось, что если переменить здесь православную веру на латинскую, то народ легче признает свою зависимость от Андрея. Причем сделать это нужно было скорее, пока Русь занята своими делами и вроде бы забыла о несчастном Галиче и наследнике его Данииле, сыне Романа Великого. Андрей писал в Рим, прося Папу Гонория о содействии в сем деле — и Гонорий посодействовал. Пронырливые латинские попы вскоре вовсю хозяйничали в галицких храмах — выкидывали образа православных святых, праздничные одежды, развешанные прошлыми князьями в память о себе — такой обычай наглые пришельцы сочли варварским. Изменяли и сами имена церквей. С теми же священниками, что пытались противостоять надругательствам над верой, захватчики поступали особенно жестоко, словно были они не последователями Христова учения, а дикими и кровожадными язычниками. Что могли сделать граждане против латинских попов? Только жаловаться на притеснения. А кому было жаловаться? Да Судиславу же. И тем самым подставлять головы под меч.
Угорские бароны охотно селились в опустевших боярских домах, хозяева которых были умерщвлены. Новая городская знать вела себя так, как и все завоеватели в покоренных странах. Галицкие бояре, пригласившие угров для собственного спокойствия и выгод, теперь стали захватчикам не нужны. Советов у них никто не спрашивал, никто с ними не считался, имущество их и сами жизни вдруг оказались в полной зависимости от угорских баронов — словно в одночасье богатейшие галицкие мужи стали холопами. Крепкая и жестокая рука взяла беззащитный Галич за горло.
Бан Фильний, или, как его проще называли, Филя Прегордый, был олицетворением неправедной власти. Его имя наводило на всех ужас. Он не щадил и женщин, и стариков, и даже малых детей. Детей — особенно, говоря, что дурную траву надо вырывать вместе с малыми корешками, чтобы из них не вырастала новая. Любимые изречения гордого Фильния передавались из уст в уста, и по ним можно было себе представить, что он за человек. Он считал себя непобедимым. Один камень много горшков побивает, говорил он. Камнем, конечно, был он сам, а горшками — русские. Острый меч, борзый конь — много Руси! Это выражение Филя, как рассказывали, повторял часто и по всякому поводу. Никогда до сей поры не сталкиваясь с русскими в поле, он думал, что с ними так же легко управиться, как и с мирными гражданами.