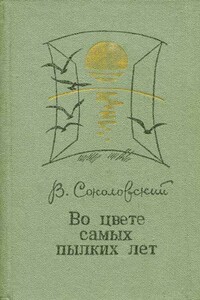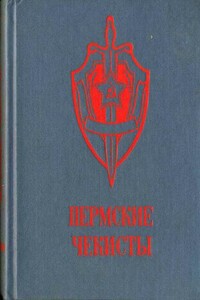Из областного города, где сел самолет, надо было долго ехать до села автобусом, — да Валерий Львович еще подгадал так, чтобы сесть именно в последнюю машину, и приехать затемно. Он не хотел, чтобы его кто-нибудь увидел, когда он станет идти от остановки к материнскому дому. Это был старый комплекс, сидевший в нем еще с освобождения: стесняться встреч с бывшими сослуживцами, однокурсниками, давними знакомыми; если такая встреча происходила все-таки случайно, и начинался разговор, Локотков испытывал невероятные душевные мучения. Все задавали вопросы, всем хотелось знать — и от этих вопросов словно бы печать отвержения с новой силой разгоралась во лбу. Но Бог с ним, город большой, вероятность встречи мала, притом — любопытные эти, настырные — все-таки чужие люди, и наплевать на них! — а здесь иное дело: почти все знают тебя. Как признаться им в глаза, что ты уже не прежний Валерий, научный человек и вхожий в большое общество, а обыкновенная замухрышка, ничего собой не представляющая. И обязательно любая встреча с разговором донесется до матери и больно коснется ее. И он крался к дому тихо, словно ночной тать, жался к заборам, а если навстречу шли люди — огибал их, выходя на широкую, посреди села идущую дорогу.
Знакомым движением он открыл запор, толкнул калитку. Дом у них был пятиоконный: кухня, горница, материна спальня. Теперь окна были темны, только в горнице что-то подполыхивало — видно, мать смотрела телевизор. Сразу после стука вспыхнул свет в кухне, и Локотков прижался лицом к окну. Сквозь слезы он видел, как темным пятном пронеслась к двери мать…
Потом он ел суп, с хрустом, по-волчьи перегрызая мясные хрящи, а мать сидела напротив и смотрела на него. Большое, ставшее рыхлым лицо ее было мокрым, и она все время вытирала его платком. «Валерка, Валерка…» — шептала она. Вдруг спохватилась:
— Ой, да ты, может, выпьешь? Я сейчас за бутылкой схожу. Я знаю, где взять. Что ж, ради такого-то случая?..
— Сиди, не ходи никуда. Я сейчас не очень, знаешь. Раньше вот — да, тогда мог, а теперь — что-то не очень…
Он походил по горнице, поглядел найденный в шифоньере старый альбом, и сказал:
— Странная мне ваша жизнь, мамка! Хозяйство, курицы, воду носи, дрова руби, огород копай, — так и проходит время. Мне вот его всегда не хватало, хоть я ничего этого и не делал. Нет, ты не подумай, что хочу сказать обиду, — я сейчас не лучше и не чище живу вас, и лучше жить уже не буду наверняка, — но все-таки странно мне все это…
— Странно ему. — проворчала мать. — Чем растыкать-то, приезжал бы лучше сюда, да и жил ладом, все бы странности мигом улетучились. Что я тебя, в ту же школу не устроила бы? Меня помнят, слава Богу, и уроки приглашают еще вести, и отца даже помнит кое-кто… Собрался, и сам не знаешь, куда едеь.
— Ладно, мамка! В том ли дело — куда? Зачем — вот главное. Я теперь, после колонии и стройки, кажется, в любую дыру бы поехал, лишь бы у своего дела быть. Да только бы в глаза прошлым не тыкали, или «тупым доцентом» не называли.
— Мутишь ты белым светом, сын беспокойный… Из-за этого и работу, и семью профукал. Ну, ну, не сверкай глазами, не буду больше… А то приезжал бы, верно, Валер! Что хорошего — одному скитаться? У нас здесь и разведенные есть, и просто женщины в поре, — за тебя ведь пойдут еще, какие твои годы!
— Неподходящий я, мам, для здешних-то баб, порченый.
— Ну, порченый! Где это видно, на каком месте? И вовсе это не беда, даже если так, — где же им других-то взять?
— Разве что так, — усмехнулся Локотков.
— Хочешь все-таки ехать. А я одна оставайся. Нет, ничего, школьники помогают, спасибо им, в школе не забывают… Езжай, ищи свое счастье. Только уж торопись, чтобы мне еще успеть его увидеть.
— Вот что пойми: я не могу здесь остаться и жить. Ведь это что получится: чем начал, тем и кончил? Очередной неудачник, жизнь прожита зря, и совсем никакого прогресса? Раньше надо было возвращаться, если так. Меня здесь не такого совсем ждали, так чтобы я ходил, и вслед мне головами покачивали: какой был, а какой стал?.. Заучился, небось, надсадил головку. Давай лучше так: я устроюсь, и ты ко мне приедешь. Может быть, даже и туда переберешься.