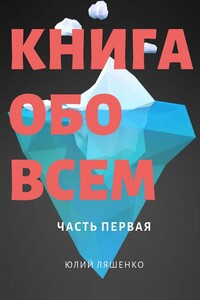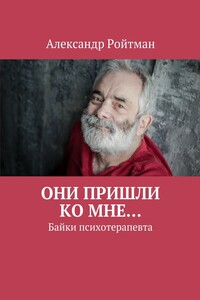Поставленные между этими двумя нелогичными выводами, народные судьи часто оставляют всех на свободе, поступая таким образом по словам Тацита, сказавшего, что «там, где виновных много, не должно наказывать никого». Это и будет тот случай, когда, как говорит Пеллегрино Росси, благодаря глупому рассуждению, виновные остаются безнаказанными.
Но справедлива ли безнаказанность? Если она справедлива, то на каком основании? Если же наоборот, то каким же тогда образом противодействовать преступлениям, совершаемым толпою? Ответить на эти вопросы и будет целью нашего сочинения.
Классическая школа уголовного права никогда не задавала себе вопроса, должно ли преступление, совершённое толпою, наказываться так же, как преступление одного человека. И это было вполне естественно. Ей было совершенно достаточно изучить преступление, как юридическую субстанцию; преступник был у неё на втором плане; это был X, которого не хотели и не умели определить. Для неё очень мало значения имело то обстоятельство, происходил ли преступник от эпилептических или пьянствующих родителей, или же от здоровых; принадлежал ли он к той или другой расе, родился в холодном или жарком климате, был ли он до этого хорошего или дурного поведения. Знание условий, при которых было совершено преступление, тоже казалось ей не имеющим значения. В её глазах, как бы преступник ни действовал: один ли, или под влиянием толпы, возбуждавшей и опьянявшей его своими криками, — всегда причиной, толкавшей его на преступление, была его свободная воля. За один и тот же проступок всегда назначалось одно и то же наказание.
При таком юридическом принципе действия судей были логичны; при отсутствии же этого принципа их выводы должны были пасть сами собой. Это и случилось.
Позитивная школа доказала, что свободная воля — иллюзия сознания; она открыла неизвестный до сих пор мир антропологических, физических и социальных факторов преступления и подняла до юридического принципа идею, которая бессознательно уже чувствовалась всеми, но не могла найти себе места среди строгих юридических формул, — идею о том, что преступление, совершённое толпою, должно судиться отлично от того преступления, которое совершено одним лицом, и это потому, что в первом и во втором случаях участие, принимаемое антропологическими и социальными факторами, совершенно различно.
Пюльезе первый изложил в брошюре, озаглавленной «О коллективном преступлении», доктрину уголовной ответственности за коллективное преступление. Он допускает полу-ответственность для всех тех, которые совершили преступление, увлечённые толпой.
"Когда, — писал он, — преступником является толпа или бунтующий народ, то индивид не действует, как отдельный элемент, но представляет из себя каплю выступившего из берегов потока, и руки, которыми он наносит удары, как бы сами собой превращаются в бессознательное орудие".
Я пополнил мысль Пюльезе, попытавшись при помощи некоторого сравнения дать антропологическую подкладку его теории: я сравнил в последующих главах преступление, совершённое под влиянием толпы, с преступлением отдельного лица, совершенным под влиянием страсти.
Пюльезе назвал коллективным преступлением то странное и сложное явление, когда толпа совершает преступление, увлечённая чарующими словами демагога или раздражённая каким-нибудь фактом, который является несправедливостью или обидой по отношению к ней, или хотя бы кажется ей таковым. Я предпочёл называть такой факт просто преступлением толпы, так как, по моему мнению, существуют два вида коллективных преступлений, которые необходимо ясно различать: есть преступления, совершённые вследствие общего всему агрегату природного к ним влечения, каковы: разбой, каморра, мафия, и есть преступления, вызванные страстями, выражающиеся самым ясным образом в преступлениях толпы.
Первый случай аналогичен преступлению, совершенному прирождённым преступником, а второй — такому, которое совершено случайным преступником.
Первое всегда может быть предупреждено, второе — никогда. В первом одерживает верх антропологический фактор, во втором господствует фактор социальный. Первое возбуждает постоянный и весьма сильный ужас против лиц, его совершивших; второе — только лёгкое и кратковременное спасение.