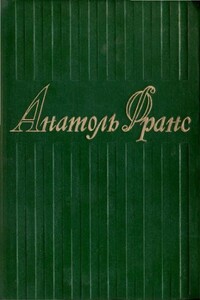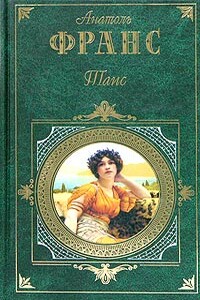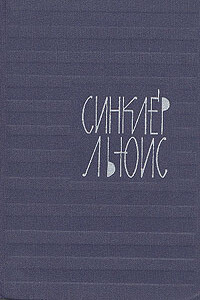У себя дома, на площадке лестницы, я застал Терезу в состоянии тревоги, доводившей ее до ярости. Она высказывала ни много ни мало, как мысль о том, чтобы впредь запирать меня на ключ.
Какую ночь провел я! Ни на одно мгновенье я не сомкнул глаз. То я смеялся, как мальчишка, удаче моей проделки, то видел с неизъяснимою тоской, как меня тащат в суд и как, сидя на скамье подсудимых, я держу ответ за преступленье, которое я совершил столь естественно. Я был в ужасе, и все же не чувствовал ни укоров совести, ни сожалений. Солнце заглянуло ко мне в комнату и весело играло на изножии кровати, а я сотворил молитву:
— Боже, создавший небо и росу, как сказано в «Тристане» >{109}, суди меня в праведности твоей не по деяниям, а по замышлениям моим, праведным и чистым,— и я воскликну: «Слава в вышних богу, и на земле мир и в человецех благоволение! В руки твои предаю похищенное мною дитя! Соверши то, чего не мог совершить я: сохрани его от всех врагов. И да благословенно будет имя твое!»
29 декабря.
Войдя к г-же де Габри, я увидел Жанну совсем преобразившейся.
Не взывала ли она, как я, при первых утренних лучах к тому, кто создал небо и росу? Сладость душевного покоя была в ее улыбке.
Госпожа де Габри позвала Жанну, чтобы закончить ее прическу, ибо милая хозяйка захотела уложить собственноручно волосы доверенному ей ребенку. Придя немного ранее условленного часа, я помешал завершить ее прелестный туалет. В наказание меня заставили одного ждать в гостиной. Вскоре ко мне присоединился г-н де Габри. Он, видимо, пришел из города, ибо на лбу его остался след от шляпы. Лицо выражало радостное оживленье. Я не счел удобным задавать ему вопросы, и мы все вместе пошли завтракать. Когда слуги кончили подавать на стол, г-н Поль, приберегавший свой рассказ до кофе, сказал нам:
— Итак, я был в Левалуа.
— Вы видели мэтра Муша? — оживленно спросила г-жа де Габри.
— Нет! — ответил он, приглядываясь к нашим лицам, выказавшим разочарованье.
Насладившись пристойное время нашим беспокойством, этот чудесный человек добавил:
— Мэтра Муша больше нет в Левалуа. Мэтр Муш покинул Францию. Послезавтра будет неделя, как он улепетнул, прихватив с собою деньги своих клиентов,— довольно кругленькую сумму. Контора оказалась запертой. Об этом событии мне рассказала его соседка, с немалым количеством проклятий и всяких пожеланий. Нотариус сел в поезд, отходивший в семь часов пятьдесят пять минут, и сел не один: он увез с собой дочь местного парикмахера. Этот факт мне подтвердил и полицейский комиссар. Поистине, мог ли мэтр Муш убраться более кстати?! Задержись он на неделю — и в качестве представителя общества он потянул бы вас, господин Бонар, в суд как преступника. Теперь нам нечего бояться. За здоровье мэтра Муша! — воскликнул он, наливая арманьяк.
Мне бы хотелось жить подольше, чтоб долго помнить это утро. Мы сидели вчетвером в большой белой столовой за столом из навощенного дуба. У г-на Поля веселость здоровая, чуть даже грубоватая, и он пил арманьяк большими глотками. Молодчина! Г-жа де Габри и мадемуазель Александр мне улыбнулись, и эта улыбка вознаградила меня за мои страдания.
Войдя к себе в квартиру, я подвергся самым язвительным упрекам Терезы, которая отказывалась понимать мой новый образ жизни. Я, по ее мнению, выжил из ума.
— Да, Тереза, я безумный старик, а вы безумная старуха. Все это верно. Да поможет нам бог, Тереза, даровав нам новые силы, ибо у нас есть новые обязанности. Но дайте полежать мне на этом канапе, стоять я больше не могу.
15 января 1877 года.
— Здравствуйте, господин Бонар,— говорит Жанна, отворяя мне дверь, в то время как запоздавшая Тереза ворчит во мраке коридора.
— Мадемуазель, прошу вас величать меня торжественно моим званием и говорить мне: «Здравствуйте, мой опекун».
— Все устроилось? Уже? Какое счастье! — восклицает Жанна, хлопая в ладоши.
— Устроилось, мадемуазель, в городском присутствии, перед мировым судьей, и с сего дня вы подчиняетесь моей власти… Вы смеетесь, моя питомица? Я вижу по вашим глазкам: какая-то сумасбродная мысль мелькает в вашей головке. Новое чудачество?