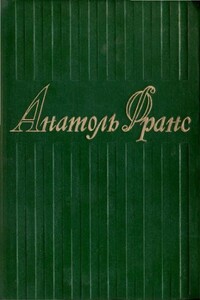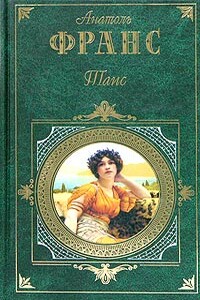Но когда адвокат-жирондист называл его капуцином >{419}, он выходил из себя и уверял, что человек, не умеющий отличить варнавита от францисканца, не заметит и мухи в молоке.
Революционный трибунал разгружал тюрьмы, которые комитеты беспрестанно наполняли; за три месяца камера восемнадцати наполовину обновилась. Отец Лонгмар лишился своего маленького беса. Адвокат Дюбоск, представший перед Революционным трибуналом, был приговорен к смерти как федералист и как участник заговора против единства Республики. Выйдя из Трибунала, он, как и все осужденные, проходил коридором, тянущимся из одного конца тюрьмы в другой и ведущим мимо двери той самой камеры, которую он в течение трех месяцев оживлял своей веселостью. При прощании с товарищами он сохранял свой обычный легкомысленный тон и жизнерадостный вид.
— Простите, сударь, за то, что я стаскивал вас за ноги с постели,— обратился он к отцу Лонгмару.— Больше не буду.
Повернувшись к старику Бротто, произнес:
— Прощайте, я раньше вас погружаюсь в небытие. Я охотно возвращаю природе элементы, составляющие меня, и желаю, чтобы в будущем она лучше использовала их, ибо, надо сознаться, я совсем не удался ей.
И он спустился в канцелярию; Бротто был подавлен, а отец Лонгмар задрожал и позеленел, как лист: монах перепугался насмерть, видя, что нечестивец смеется и на краю бездны.
Когда с жерминалем вернулись ясные дни, Бротто, по натуре человек чувственный, по нескольку раз на день спускался во двор, куда выходили окна женского корпуса, к водоему, где узницы по утрам стирали белье. Двор был перегорожен пополам решеткой, но не настолько частой, чтобы руки не могли обменяться пожатием, а губы слиться в поцелуе. Под покровом снисходительной ночи к решетке приникали пары. В таких случаях Бротто скромно отходил к лестнице и, усевшись на ступеньке, доставал из кармана своего коричневого сюртука томик Лукреция. При свете фонаря он прочитывал несколько сурово-утешительных изречений: «Sic ubi non erimus… Когда мы перестанем существовать, ничто уже не будет в состоянии волновать нас,— даже небо, земля и море, смешавшие воедино все, что от них осталось…» Но, упиваясь этой высокой мудростью, Бротто все же завидовал безумию варнавита, скрывавшему от него вселенную.
Террор усиливался с каждым месяцем. Еженощно пьяные тюремщики, обходя со своими сторожевыми псами камеры, разносили обвинительные акты, выкрикивали хриплым голосом имена и фамилии, коверкая их, будили заключенных и из-за двадцати намеченных жертв повергали в смертельный ужас двести человек. По коридорам, полным кровавых теней, каждый день проходили без единой жалобы двадцать, тридцать, пятьдесят осужденных — стариков, женщин, юношей, столь различных по общественному положению, характеру, убеждениям, что невольно возникал вопрос, не по жребию ли их отобрали.
А узники продолжали играть в карты, пить бургундское, строить всякие планы, ходить по ночам на свидания к решетке. Население тюрьмы, почти целиком обновившееся, состояло теперь главным образом из «крайних» >{420} и «бешеных». Тем не менее камера восемнадцати все еще служила приютом изысканного обращения и хорошего тона и сохраняла свой прежний облик: за исключением двух арестантов, граждан Наветта и Бэлье, недавно переведенных в Консьержери из Люксембурга и подозреваемых в том, что они «наседки», то есть шпионы, все остальные были люди порядочные, относившиеся друг к другу с доверием. В этой камере праздновали с бокалами в руках военные успехи Республики. Там нашлось и несколько поэтов, которых всегда можно встретить в обществе ничем не занятых людей. Наиболее искусные сочиняли оды в честь победоносной Рейнской армии и с пафосом декламировали их. Им шумно рукоплескали. Один лишь Бротто весьма умеренно похваливал и победителей, и их певцов.
— Еще со времен Гомера среди поэтов наблюдается странная мания воспевать воинов,— заметил он однажды.— Война — не искусство, и только случай решает судьбу сражения. Из двух одинаково бездарных полководцев, действующих друг против друга, один неизбежно должен оказаться победителем. Будьте готовы к тому, что рано или поздно какой-нибудь из этих солдафонов, которых вы обожествляете, проглотит вас всех, как в басне журавль глотает лягушек. Тогда-то он в самом деле станет богом! Ибо боги познаются по их аппетиту.