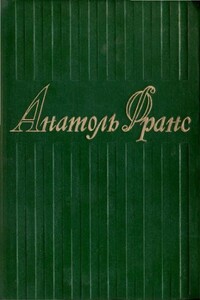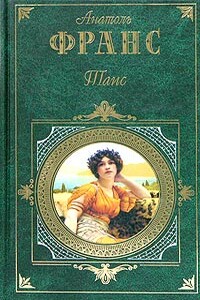Она взяла в обе руки голову Жюли.
— Послушай, дочка. Я поговорю с Эваристом. Я подготовлю его к встрече с тобой. А то, неожиданно увидав тебя, он может прийти в ярость… Я боюсь его первого движения… И потом, я ведь знаю твоего брата: этот наряд неприятно поразил бы его; он строго относится ко всему, что касается нравов, приличий. Я сама была немного удивлена, увидав мою Жюли в мужском костюме.
— Ах, мама, эмиграция и страшные события в стране сделали переодевание вещью совсем обычной. На это идешь, чтобы заняться ремеслом, чтобы не быть узнанной, чтобы иметь возможность жить по чужому паспорту или свидетельству о благонадежности. В Лондоне я видела молодого Жире, переодетого в женское платье: он казался прехорошенькой девушкой, но согласись, мама, что такой маскарад гораздо неприличнее моего.
— Дитя мое дорогое, тебе незачем оправдываться передо мной ни в этом, ни в чем-либо другом. Я — твоя мать: для меня ты всегда будешь невинной. Я поговорю с Эваристом, я скажу ему…
Она не докончила фразы. Она догадывалась, что такое ее сын,— догадывалась, но не хотела верить, не хотела знать.
— У него доброе сердце. Он сделает для меня… для тебя все, о чем я его попрошу.
И обе женщины, бесконечно уставшие, замолчали. Жюли уснула, положив голову на те самые колени, на которых засыпала ребенком. Убитая горем мать, перебирая четки, плакала в предчувствии несчастий, неслышно подступавших в тишине этого снежного дня, тишине, когда безмолвствовало все: шаги, колеса, само небо.
Вдруг своим чутким слухом, еще обостренным беспокойством, она расслышала, что ее сын подымается по лестнице.
— Эварист! — шепнула она.— Спрячься.
И втолкнула дочь к себе в спальню.
— Как вы себя чувствуете, матушка?
Эварист повесил шляпу на вешалку, снял с себя голубой фрак и, надев рабочую блузу, уселся перед мольбертом. Уже несколько дней он набрасывал углем фигуру Победы, возлагающей венок на голову солдата, умершего за родину. Он с увлечением отдался бы этой работе, но Трибунал отнимал у него все время, поглощал его целиком. Его рука, отвыкшая рисовать, двигалась медленно и лениво.
Он стал напевать «Ça ira».
— Ты поешь, дитя мое,— сказала гражданка Гамлен,— ты в веселом настроении.
— Как же не радоваться, матушка: получены хорошие вести. Вандея раздавлена, австрийцы разбиты; Рейнская армия прорвала линию неприятельских укреплений в Лаутерне и Вейсенбурге. Близок день, когда победившая Республика проявит свое милосердие. Но почему дерзость заговорщиков растет по мере укрепления сил Республики и почему изменники изощряются в тайных кознях против родины в то время, когда она поражает врагов, которые открыто нападают на нее?
Гражданка Гамлен, продолжая вязать чулок, наблюдала за сыном поверх очков.
— Твой старый натурщик, Берзелиус, приходил за десятью ливрами, которые ты остался ему должен. Я отдала ему деньги. У малютки Жозефины были сильные колики в животе: она объелась вареньем, которым ее угостил столяр. Я приготовила ей настойку… Заходил Демаи. Он сожалел, что не застал тебя, и говорил, что с удовольствием взялся бы выгравировать один из твоих рисунков. Он находит, что у тебя большой талант. Славный малый рассматривал твои наброски и восхищался.
— Когда мы заключим мир и уничтожим всех заговорщиков,— сказал художник,— я снова примусь за Ореста. Я не люблю хвастать, но это голова, достойная Давида.
Величественной линией он наметил руку своей Победы.
— Она протягивает пальмовые ветви,— сказал он.— Но было бы лучше, если бы самые руки ее были пальмовыми ветвями.
— Эварист!
— Что, матушка?
— Я получила известие… угадай от кого…
— Не знаю.
— От Жюли… от твоей сестры… Ей живется совсем не сладко.
— Было бы возмутительно, если бы ей жилось хорошо.
— Не говори так, дитя мое: она тебе сестра. Жюли неплохой человек. Она способна на добрые чувства, а несчастие еще взрастило их. Она тебя любит. Могу тебя уверить, Эварист, что она стремится зажить честной, трудовой жизнью и только о том и думает, как бы опять сблизиться с нами. Почему бы тебе не повидаться с нею? Она вышла замуж за Фортюне Шассаня.
— Она писала вам?