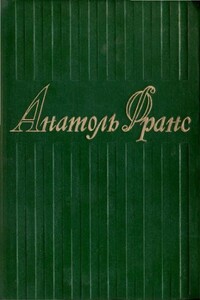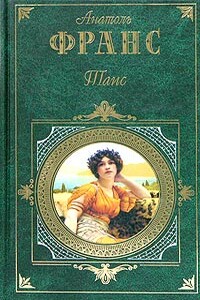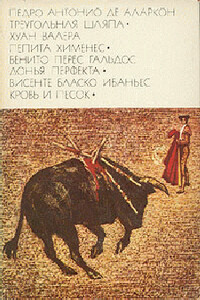Десять часов утра. Ни ветерка. Такого жаркого июля еще не помнили. На узкой Иерусалимской улице около сотни граждан местной секции стояло в очереди перед дверьми булочной; четыре национальных гвардейца, опустив ружья и покуривая трубки, наблюдали за порядком.
Национальный конвент установил твердые цены — тотчас же исчезли зерно и мука. Подобно израильтянам в пустыне, парижане, не желавшие голодать, подымались до света. Все эти люди — мужчины, женщины, дети — напирали на соседей, толкались, перекликались, смотрели друг на друга со всеми чувствами, какие только может испытывать человек к своему ближнему: с ненавистью, отвращением, любопытством, вожделением, равнодушием, а раскаленное небо нагревало гниющие отбросы в канавах и обостряло запах пота и грязи. На основании горького опыта было известно, что хлеба на всех не хватит, поэтому опоздавшие старались пролезть вперед; те, кого оттесняли, разражались жалобами, возмущались, тщетно ссылались на свое попранное право. Женщины с ожесточением работали локтями и бедрами, чтобы сохранить за собой место или пробраться ближе. Когда давка увеличивалась, подымались крики: «Не толкайтесь!» И каждый оправдывался, утверждая, что его толкают.
Дабы избежать этих ежедневных беспорядков, комиссары, уполномоченные секцией, распорядились протянуть от дверей булочной до конца очереди веревку, за которую все должны были держаться. Однако руки стоявших рядом то и дело сталкивались и вступали в борьбу. Выпустивший веревку уже не имел возможности снова ухватиться за нее. Недовольные или просто озорники перереза́ли ее, и от этой меры пришлось отказаться.
В очереди задыхались, теряли сознание, обменивались остротами, вольными замечаниями, ругали аристократов и федералистов, виновников всех бед. Когда мимо пробегала собака, шутники называли ее Питтом. Порой раздавалась звонкая пощечина, отпущенная какому-нибудь нахалу одной из оскорбленных им гражданок, между тем как молоденькая служанка, прижатая соседом, томно вздыхала, потупив взор, полураскрыв рот. На каждое слово, на каждый жест, на каждое положение, способные привести веселых французов в игривое настроение, кучка юных озорников затягивала «Ça ira», не обращая внимания на протесты старого якобинца, возмущенного тем, что опошляют грязными намеками припев, выражавший республиканскую веру в грядущую справедливость и всеобщее счастье.
С лестницей под мышкой подошел расклейщик афиш и налепил на стене против булочной объявление Коммуны о введении мясного пайка. Прохожие останавливались и читали еще не успевшую просохнуть бумагу. Торговка капустой, с плетенкой за плечами, заворчала сиплым, надтреснутым голосом:
— Ну, теперь поминай как звали наших бычков! Теперь ветер загуляет у нас в кишках!
Вдруг из сточной канавы потянуло такой чудовищной вонью, что многих стошнило; одной женщине стало дурно, и ее без чувств сдали на руки двум национальным гвардейцам, которые оттащили ее в сторону, к насосу. Люди затыкали себе нос; поднялся ропот, обменивались отрывистыми замечаниями, в которых сквозило беспокойство и страх. Допытывались, не закопана ли здесь дохлятина, не положили ли сюда злоумышленники отраву, или — это казалось правдоподобнее всего — не разлагается ли забытое поблизости в одном из погребов тело какого-нибудь дворянина или священника, убитого в сентябрьские дни >{352}.
— Разве их сваливали здесь?
— Их сваливали повсюду!
— Это, должно быть, один из тех, с которыми расправились в Шатле. Второго числа я видел триста трупов, нагроможденных в кучу на мосту Менял.
Парижане боялись, как бы мертвые аристократы из мести не отравили их.
Эварист Гамлен стал в очередь: он решил избавить старуху мать от утомительного стояния. Вместе с ним пришел его сосед, гражданин Бротто, спокойный, улыбающийся, с Лукрецием в оттопыренном кармане коричневого сюртука.