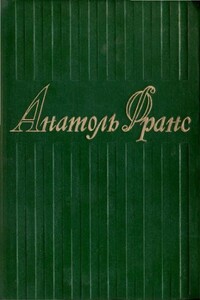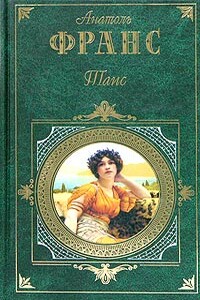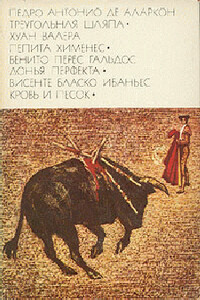Сгорая от нетерпения поскорее осуществить свой замысел, он крупными шагами направился на Скобяную набережную, где над лавкой стекольщика жил Демаи.
Вход был через лавку. Жена стекольщика предупредила Гамлена, что гражданина Демаи нет дома, чем не очень удивила художника, так как он знал своего приятеля за человека непоседливого и легкомысленного и поражался, как это, работая лишь урывками, Демаи гравирует так много и так искусно. Гамлен решил подождать его минутку. Жена стекольщика предложила ему стул. Она была мрачно настроена и стала жаловаться на дела, которые шли из рук вон плохо, хотя можно было предполагать, что Революция, разбивая столько оконных стекол, обогатит стекольщиков.
Смеркалось. Отказавшись от мысли дождаться товарища, Гамлен простился с женой стекольщика. Проходя по Новому мосту, он увидел на набережной Морфондю конный отряд национальных гвардейцев, которые, бряцая оружием, расталкивая толпу, с факелами в руках конвоировали телегу, медленно влекшую на гильотину человека, имени которого никто не знал,— какого-то бывшего дворянина, первого, осужденного новым Революционным трибуналом. Между треуголками гвардейцев смутно виднелась его фигура: он сидел лицом к задку телеги, руки у него были связаны за спиной, обнаженная голова беспомощно болталась. Рядом с ним стоял палач, опершись рукой о боковую стенку повозки. Прохожие, остановившись, высказывали предположение, что это, вероятно, какой-нибудь спекулянт, моривший голодом народ, и равнодушно смотрели на осужденного. Гамлен, подойдя поближе, увидел среди зевак Демаи: он старался выбраться из толпы и перебежать дорогу. Эварист окликнул его и дотронулся рукой до его плеча. Демаи обернулся. Это был молодой человек, красивый и сильный. В свое время в Академии говорили, что у него голова Вакха на торсе Геракла. Приятели звали его «Барбару́ >{345}» — за сходство с этим народным представителем.
— Пойдем,— обратился к нему Гамлен,— мне надо поговорить с тобой о важном деле.
— Оставь меня в покое! — раздраженно ответил Демаи.
Выжидая удобный момент, чтобы протиснуться сквозь толпу, он обронил несколько невнятных слов:
— Я шел следом за божественной женщиной… Соломенная шляпка… золотистые волосы, распущенные вдоль плеч… Вероятно, какая-нибудь модистка… Проклятая телега разъединила нас… Она успела пройти вперед… Она уже в конце моста!
Гамлен попытался удержать его за кафтан, клянясь, что дело очень важное.
Но Демаи уже пробирался между лошадьми, гвардейцами, саблями и факелами, вслед за своей модисткой.
Было десять часов утра. Апрельское солнце заливало светом нежную зелень деревьев. Освеженный ночной грозою воздух был полон сладостной истомы. Изредка всадник, проскакав по Вдовьей аллее, нарушал безмолвие уединенного уголка. В конце тенистой аллеи, напротив хижины, носившей название «Лилльская Красавица», Эварист, сидя на деревянной скамейке, поджидал Элоди. С того дня, как их пальцы встретились на батистовом шарфе и дыхание смешалось, он не был ни разу в «Амуре Живописце». Целую неделю гордый стоицизм и все возраставшая робость удерживали его вдали от Элоди. Он отправил ей пылкое письмо, мрачное и серьезное, в котором, излагая причины своего недовольства гражданином Блезом, но умалчивая о своей любви и скрывая скорбь, заявлял о принятом им решении не переступать порога лавки и, по-видимому, собирался сдержать слово с твердостью, которая вовсе не улыбалась влюбленной девушке.
Обладая совсем противоположным характером, Элоди, ни за что не желавшая поступаться тем, что она считала своим добром, сразу стала раздумывать, как бы вернуть себе друга сердца. Сначала она намеревалась пойти прямо к нему в мастерскую, на Тионвильскую площадь. Но, зная, что он отличается хмурым нравом и, судя по письму, сильно раздражен, а также опасаясь, как бы он не перенес на нее злобы, которую питал к отцу, и не стал избегать ее в дальнейшем, она решила, что лучше назначить ему сентиментальное и романическое свидание, от которого он никак не может уклониться и которое даст возможность переубедить и пленить его, ибо уединение поможет ей его очаровать и покорить.